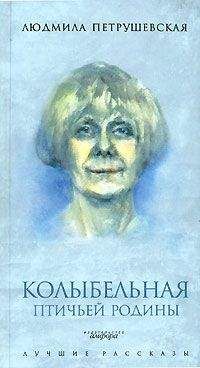Поэтому можно сказать, что Вера впервые в жизни с невероятной полнотой ощутила направленное на нее доверие, исходящее от старшего, доверие незатейливое, без задних мыслей, доверие от минутного настроения души, просящей чьего-нибудь благоговения, при этом без опасений, что такое благоговение будет преувеличенно-искренним, с многочисленными задними мыслями. В случае Веры и шефа две души встретились на одном уровне простоты, очищенности от каких бы то ни было посторонних побуждений. Доверие и благоговение вели свой нежный дуэт, в то время как шеф диктовал, а Вера печатала.
И такая чистота отношений, такой взлет и единение душ не могли пройти бесследно для бедной Верочки и для шефа. Спустя некоторое время шеф, разрезвясь во время очередной диктовки, поспорил с Верой об одном фильме, кто в нем играет главную роль, поспорил на так называемую «американку» — то есть проспоривший исполняет любое желание выспорившего.
Это был давнийшний прием, знакомый шефу еще со времен его рабочей юности, а Верочке — из обычаев пионерлагерей, куда она ездила каждое лето до своих несчастных шестнадцати лет. Верочка, проспорив, присмирела и искренне опечалилась. Трудно передать словами ту смесь тоски, жертвенности, сожаления о спешке, бешеной радости и ожидания чего-то наилучшего, этой всегдашней смеси чувств влюбленной женщины, в нашем случае Верочки, решившейся на так называемое «всё».
Короче говоря, Верочка сказала, что раз она проспорила, то готова выполнить одно желание. Шеф сказал, что в его время под «американкой» подразумевались три желания. На что Верочка согласилась, что раз три, то пусть будет три.
И на этом разговор повис в воздухе. Шеф быстро кончил диктовать и вскоре ушел в свой кабинет и вышел затем оттуда с портфелем и номерком в руке и скрылся.
И напрасно Верочка, бледнея и холодея, ждала от него в течение последующих месяцев хоть какого-нибудь знака, хоть весточки или телефонного звонка. Затем Верочка после бессонной ночи решилась и позвонила шефу по телефону-автомату в обеденный перерыв и попросила ее принять, что уж само по себе было необычно и могло насторожить шефа, так как у него все было устроено так, что сотрудники входили без доклада. Но он назначил ей время в конце рабочего дня и при этом попросил ее постучать в дверь кабинета три раза раздельно. Верочка, смело придя на это необычное свидание, долго просидела у шефа и буквально не дала ему рта раскрыть, все говорила и говорила ему о своей жизни, точно у нее прорвалась плотина. Шеф слушал внимательно и даже иногда вставлял свои замечания типа «это все крайне интересно, это крайне интересно, вы даже не представляете себе, я вас хочу изучать как тип». Наконец шеф дал согласие на встречу и выбрал довольно позднее время, девять часов вечера, и сказал, что с работы надо будет уйти порознь, а то смешно вместе на глазах у всех выходить с работы, потому что и в такое позднее время случаются всякие казусы.
Как и следовало ожидать и как бы и предсказал отец Веры, который ничего на сей раз не знал, Вера напрасно в течение полутора часов мерзла где-то в глубоком захолустье у трамвайной остановки на замощенной булыжником улице, очевидно, известной шефу еще с его рабочей юности. Затем Верочка побежала бегом, чтобы согреться и освободиться от дрожи, и хорошо еще, что она назначила еще одно свидание, часом позже, со своим мальчиком, и хорошо еще, что он терпеливо ждал, так что вечер прошел у Верочки ничего.
Донна Анна, печной горшок
Она была все время как бы тайно занята (секрет без разгадки: никакого знака наружу не поступало). Огонь, желтый, землистый, пробивался с ее лица, выдавал себя то в зенице глаза, то в цвете щек, то в запекшихся губах.
Она знала, что за ней все время неустанно наблюдают многие, выдававшие себя (тоже было заметно) как-то особенно вывороченными белками глаз. Мелькало это белое и то темно-желтое, белое охотилось за желтым, желтое пряталось, темно-желтое, повторяю, цвета желтой глины.
Как печной горшок, осторожно передвигала она свою голову, охраняя тайны этого горшка, заключавшиеся (очень просто) в том, что надо было этот горшок налить до краев водкой. Причем владелица горшка все время, двигая свой горшок в том или ином направлении, жила не в углу под лестницей, не в каморке, а в огромной квартире среди собственной семьи, среди детей, при наличии мужа и кучи знакомых, подруг и друзей: приходящие усаживались за стол, выставлялись бутылки, какая-никакая закуска, добрые лица выставлялись над столом как пустые бутылки, и печной горшок сиял добротой и своей тайной, целеустремленный темно-желтый горшок; пели песни, курили, спорили об искусстве (оба, и муж и жена, были художники), эти споры были не об искусстве, что как положить какой цвет рядом с каким, не любители сидели тут, а профессионалы, которым смешно обсуждать ремесло; о деньгах шла речь, о выставках, о заграничных идиотах кураторах и галерейщиках, об эмигрантах, которые на многое надеялись и получали вдесятеро больше подлинной цены, а потом гонорары и авторы завяли, поникли — за столом не говорились слова типа «без родной почвы», само собой разумеется. Само собой разумелось, что эмигранты завядали не от предательства, их предавала родная почва, отсылала, уже не держа корешки.
Сидящих за столом родная почва не отсылала, редко отпускала в командировки зарабатывать какие-то деньжонки в марках, франках или фунтах, причем сидящие со смехом обменивались историями, как кого обманули там и там, и печной горшок (звали ее донна Анна неизвестно почему) не отзывался, горя своим теперь уже медным огнем, медью отсвечивали глаза и рот и даже светлые кудри, Анна хорошела на втором стакане — такая стадия — хорошела неотразимо, все вокруг теснее сбивались, пели, кричали, чувствуя свое братство, а потом донна Анна падала. Стукалась медным горшком об стол.
Анну утаскивали, компания продолжала гудеть, ведь оставался еще и муж, добрый и мягкий, хороший брат-товарищ, вечно устраивал выставки, вернисажи со стаканчиками и бутылками, крутились проекты, Шорош давал деньги, знаменитый компьютерщик давал деньги, у мужа Анны они перетекали через руки, унавоживали почву для произрастания кураторов, постмодернистов, концептуалистов и неомилитаристов, кого угодно.
Простой народ входил в темные галереи, где с тарелки на тарелку под светом верхних направленных источников света лилась, допустим, загадочная лента слов, которые надо было бы прочесть, дойдя до конца. Темнота, мрак, светящиеся белизной тарелки и т. д.
Веселые проекты с хохотом представлялись Леопольду (прозвище мужа), за каждым проектом немедленно выстраивался ряд рабочих рук, протянутых за деньгами, затем выстраивался ряд столов на вернисаже, ряд бутылок на столах, ряды стендов, ламп, рам под стеклом, редкие фигуры посетителей, затем проект гас, залы пустовали, а за обеденным столом в доме донны Анны опять шли беседы под звон посуды, Леопольд собирался доставать деньги, и что-то опять начинало закручиваться, а печной горшок заполнялся.
Нельзя сказать, что при этом дом был под паутиной, посуда немытая, а дети голодные, нет. Печной горшок молча действовал по утрам, приходили вереницы подруг, кто-то что-то делал, где много людей, там всегда найдется неприкаянная душа, за ночевку готовая мыть и драить, а уж послать за продуктами было легче легкого, и при этом Леопольдова мать, горемыка (которая не ходила к нему в гости и не могла залучить его к себе, обихаживала сама свой собственный угол, и то слава богу), так вот, эта мать, жалея внучков, засылала к сыну в дом якобы нянь, свою агентуру, няни уживались неподолгу, но дети все-таки реально были обстираны, помыты и накормлены, младшие отведены и приведены, старшие наглажены и снабжены завтраками в рюкзак: такова была установка несчастной высланной бабушки, которая, разумеется, так и не смогла понять смысла этого брака.
Детей было восемь. Старшие двое от первого брака печного горшка, затем остальные через пень-колоду, кто от Леопольда, кто от промежуточного человека, когда Леопольд ушел вон, а этот пришел и сел на гнездо, и вывел своих, за год один родился, второй наметился, но как-то сам собой пришелец умер, донна Анна осталась лежать не вставая, денег не оказалось совсем, и Леопольд вернулся на царство, и деньги потекли.
Анна встала, родила, потом опять родила, стоп.
Итого оказалось их восемь: четверо вроде Леопольдовы, четверо точно от других.
Печной горшок все так же хоронился, чураясь чужих людей, выходил к гостям только к своим, новых не признавал, а уж тем более в те поры, когда Леопольд на зимние каникулы выпроваживал весь сброд в дом отдыха на Клязьму, там они отдыхали много лет, и уж тут горшок вовсю прятался от посторонних лежа в номере, редко просверкивая по аллеям парка среди детей, и уж тем более выворачивались глазные белки встречных, провожая донну Анну, выедая взорами ее пламенеющее желтым печным загаром лицо, темные, цвета пива, гляделки и темный же запекшийся рот, буквально цвета бурой крови, и прекрасные светлые кудри на фоне снега, и всю ее фигурку, теперь уже точно похожую на таковую же тряпичную куколку старой вокзальной шлюхи, т. е. тонкая нога, слегка отвислый живот, руки жилистые как кленовые листья, общая вогнутость стана и всегдашняя улыбка на устах, какое-то извинение типа реверанса, что я еще живу.