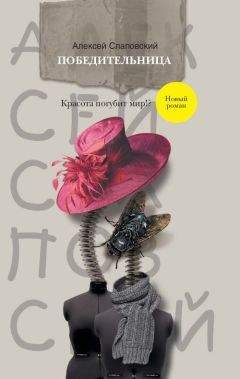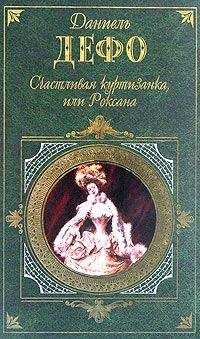И тут раздался звонок от Влада. Он сказал, что я, наверное, в курсе последних событий, и попросил не обижаться. Он не хотел меня расстраивать и срывать мне турне. Этот брак – только видимость. Он всё объяснит при встрече, главное – не делать резких движений, если я его действительно люблю.
То есть он шантажировал меня моим хорошим к нему отношением!
Во мне всё вскипело, и я сказала, что лишнее движение уже сделано, я лечу в Москву.
Он помолчал. Он умел не тратить слов, когда знал, что ситуация необратима. Ведь даже он со всеми его связями не способен самолет повернуть назад. После паузы Влад сказал:
– Хорошо, я тебя встречу.
Встретил меня не он, а какие-то незнакомые люди. Они провели меня в депутатскую комнату или VIPапартаменты, которые были во всех русских аэропортах, на всех вокзалах, во всех гостиницах, учреждениях, ресторанах, это, Володечка, просто-напросто старинная традиция, даже в домах всегда существовали так называемые чистые половины, гостевые, и комнаты попроще, для просто людей, которые так и назывались – людские.
Вот меня и провели через людской зал в укромную чистую гостевую, где меня ждал мой Влад – теперь уже не мой, с чем я не могла смириться. Верный своим привычкам, сначала он излил на меня потоки гнева за то, что я ничего не понимаю, а тороплюсь наломать поленьев. Хорошо, сказала я, пусть я чего-то не понимаю, тогда объясни, хотя, по-моему, это надо было сделать раньше.
Влад объяснил: перед ним давно стояла проблема развода с женой Ольгой. Проблема очень серьезная: и Ольга была против, и дети не в восторге. А главное, отец Ольги – большой воротун бизнеса и политики, он, если рассердится, испортит Владу не только жизнь, но и всю его карьеру. Особенно когда увидит, что зять на ком-то вторично женится по любви, без интереса, то есть, в его понимании, ради чистого баловства. Именно так он воспринял бы брак Влада со мной. А вот женитьбу на дочери Буковицына он расценит как деловой проект и тоже, конечно, рассердится, но зато поймет и простит, учитывая, что он с Буковицыным давний знакомый и партнер. Поэтому Саша в определенном смысле – средство развода с Ольгой.
– И она это знает? – спросила я.
– Кто?
– Саша, кто же еще?
– Конечно, нет.
– А если узнает?
– Каким образом?
– Я скажу.
– Ты хочешь испортить мне жизнь? Пойми, всё эти женитьбы и замужества в наших кругах – дело абсолютно формальное. У Саши есть приятель, но отец ни под каким видом не позволяет ей выходить за него замуж, он чуть ли не наркоман вообще. Поэтому у нас всё взаимно, я для нее тоже что-то вроде ширмы.
– Она тебе так сказала?
– Зачем говорить, мы умные люди, без слов всё понимаем.
Мы долго еще беседовали, и Влад убедил меня в том, что он прав, что поступает так, как должен поступить. Убедить было не так уж трудно: от слов он перешел к делу, а я в такие моменты совсем теряла голову.
Он посоветовал мне во избежание ненужных мыслей и поступков уехать, отдохнуть, не читать газет и журналов, Интернета, не смотреть телевизор – куда-нибудь подальше, на Карибские острова. И пообещал, что через неделю обязательно прилетит ко мне на пару дней. Это было привлекательно. Вернее, наилучший вариант из имевшихся наихудших.
Моя тропическая неделя, Володечка, была очень странной. Я одновременно восхищалась окружающей красотой и была депрессирована случившейся неприятностью. Утром, после душа, глядя на себя в зеркало, я думала: боже мой, какая я красивая! – и тут же вдогонку: боже мой, какая я несчастная! Этот гремящий коктейль чувств, это beautiful suffering105, наверное, добавляли к моему облику дополнительное очарование, я видела, что всё вокруг любуются мной, влюблены в меня. А у меня, возможно потому, что я в этот период была избавлена от проклятья аллергии, была в те дни какая-то повышенная чувствительность ко всему, но чувствительность не раздраженная, а благодарная. Утром я просыпаюсь – и благодарна своему сну, который меня отдохнул, благодарна легкому теплу под мягким одеялом и приятной прохладе комнаты, где беззвучно работает климат-система. Я открываю тяжелые шторы: набивная плотная ткань на бежевой шелковой подкладке, рисунок – темно-зеленые стебли и бархатно-пурпурные цветы. Впускаю свет. Вижу море, лазурное, прозрачное у берега и синее, яркотемное дальше. Иду в ванную босиком по гладким каменным плитам и коврикам: плиты прохладны, коврики теплы и мягки. Потом делаю легкую гимнастику на веранде, глядя на море, взмахиваю руками и ногами и чувствую, как с каждой минутой ласковеет воздух, ветром овевающий мои движущиеся руки и ноги. Выхожу из своего домика, напоследок оглядев его так, будто прощаюсь с этим временным жилищем, – для лирики ощущений. В комнатах мебель из массивного темно-красного дерева, стены, покрашенные в легкий оттенок, чтобы их почти не замечать, кровать под балдахином, с кисейным пологом, потолок из беленых досок – для стильности. Иду в ресторан – босиком, мне это понравилось, я заметила, что многие дамы через день-два переняли эту моду, хотя считалось, что в ресторан босиком нехорошо. Вообще везде свои незаметные правила – чаще приятные, потому что всякие правила облегчают жизнь, если они созданы для удобства, а не ради затруднительности. Утром в ресторан всё приходили в одежде обычной, будничной, неприметной, в обед, когда всё уже веселое, разгоряченное, развеселенное морем и бассейнами, можно даже в купальных одеждах – наскоро, шумно, как на пикнике. Вечером же у них, как во многих западных и южных странах, то, что у русских считается обедом: обильная еда, неспешная, с разговорами. И всё в чем-то вечернем, и босиком дамы уже не приходят, даже я. Преимущественно туфли или босоножки на высоком каблуке.
Я любила утренний ресторан за малолюдность, тихость, неспешность оживших после сна отдыхающих. Входишь, тебе улыбаются официанты – не просто так, а потому, что уже знают тебя (улыбки первых дней заучены, механичны), ты уже своя, и они – свои. Ощущение домашности, когда всё узнаваемо и всё на своих местах, появляется быстро, без него невозможно жить. Человек всё быстро одомашнивает, я знаю это по опыту своих многих поездок. Уже потом, в трудные времена, когда приходилось жить в тесных каморках, я, вселяясь, первым делом аккуратно раскладывала и развешивала вещи, не позволяя им валяться где попало, вешала на стену небольшую репродукцию любимой картины «Грачи прилетели», которая сразу создавала вокруг Россию, какие бы безликие панели ни обрамляли пространство, ставила на столик букетик с цветами, которые покупала в ближайшем магазине, – и всё, мой дом был готов.
В ресторане этого дорогого отеля хоть и существует традиционный стол самоугощения, но ты можешь сесть и тебя обслужат, всё принесут, что скажешь. Я никогда этого не делаю, я всё сама.
Легкие, но приятно-звучные в тишине прикосновения ножей и вилок к тарелкам, ложечек к чашкам, чашек к блюдцам. Темная струя ароматного кофе густо льется в белую чашку. Белое молоко льется в черный кофе: белое облачко вплывает в черную жидкость, распространяется, не спеша размешиваешь, всё становится однородного оттенка. Берешь хлеб, он мне запрещен диетой, но здесь можно – и столько сортов, что трудно удержаться, берешь три ломтика хлеба – белый и упругий, темный, тяжелый, с какими-то плотными вкраплениями, и большой ломоть смешанного цвета, с впуклыми раковинками, какие бывают в сыре. На черный ломтик намазываешь желтоватое масло, на белый немного джема – красного вишневого или оранжевого апельсинового, а на большой ломоть кладешь что-то основательное, крестьянское, – ломоть буженины или окорока. Все это неприхотливо, без изысков (а они тут есть – и немало, включая экзотические морепродукты), но для человека самая вкусная еда – та, что из детства. Иногда мне хочется закрыть глаза и сосредоточиться на ощущениях: гладкая ручка кофейной чашки в пальцах, приятно-шершавый кусок хлеба в руке, у меня развилось что-то вроде тактильного гурманства, каждый предмет мне казался на ощупь отдельно по-своему приятен. Проходя мимо пальм, беседок, бунгало, галерей, я обязательно дотрагивалась до поверхностей, ощущая и сравнивая.
Идешь к морю по белому песку, еще не успевшему нагреться. На пляже никого, некому глазеть, но зато кажется, что весь мир, в центре которого ты находишься, любуется на тебя – вот когда ты «мисс Вселенная», а не потому, что вручили корону, вот когда чувствуешь, что Бог всё создал для тебя, а тебя сделал для всего, что ты (как и каждый любой другой человек) есть цель и смысл всего, что существует. И всё есть несомненное доказательство Бога – и ты сама, и небо над тобой, и вода, в которую входишь, и десятки видов разноцветных рыб, причудливых кораллов, которые ты рассматриваешь, опустив в воду голову в маске. Нет, действительно. Если это не чувствует через тебя мировая душа, то есть Бог, тогда зачем всё это? Само для себя? Не чувствуя себя? Так не бывает! Так не может быть! Мне вообще тогда казалось, что Бог создал Человека как некий орган чувствования мира – чтобы через него осознать всю греховную прелесть плотского существования. Правда, какое же оно плотское, если увиденный человеком красивый предмет тут же в нем, в человеке, становится духовным отражением?