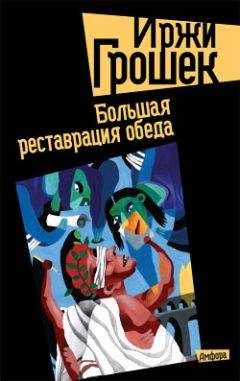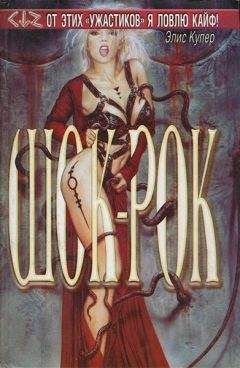— Кто едет-то? — спросил Хрящев.
— Да говорят САМ. Вроде Никифор будет.
Невелика похвала, да и похвала ли, так, упоминание всуе, а НАШ ДОРОГОЙ ГОСТЬ и ему стал рад. Улыбнулся, повернул голову к сопровождавшим его лицам и заморгал свирепо, чтобы по опрометчивости никто его инкогнито не раскрыл. Потом спросил старика:
— А как вы к нему относитесь?
Убей меня на месте, я бы такого вопроса даже сыну своему не задал. Разве можно на человеке как на ромашке гадать: «любит — не любит»?
— А чо нам относиться? — спросил плотник в свою очередь. — Нам он не кум, не сват…
— Все-таки разговоры бывают? Одобряют или как?
— Да все больше «или как», — сказал старик. — Но это когда откровенно, между собой. А на митингах — тут порядок. Все одобряют.
— И что говорят?
— Разное произносят. Очень неуловимое.
— А кукурузу у вас приняли?
— Приняли, мил человек, пропади она пропадом, язви ее в душу!
— Что так сердито?
— А чо, плясать с ей таперя? Край у нас такой — рожь посеешь — рожь уберешь. Кукурузу посеешь — убирать будешь хрен. Ей ведь, окаянной, солнышки нужны. А у нас летом все больше паморок, зимой — падера.
На лице Хрящева застыл невысказанный вопрос. Брови вздернулись, губы поджались.
Только старик должно быть немых вопросов не понимал. Он сосал цигарку и сопел в две дырочки, не следя за выражением лица руководящего товарища.
— Что? — спросил Хрящев, постояв в раздраженной растерянности. — Что у вас тут зимой и летом?
— Мжица, говорю, летом. Зимой — дряпня.
— Пасквиль ломаешь, дед? — спросил Хрящев в неожиданном озарении и с великим сталинским подозрением посмотрел на старика. Должно быть, старался приметить, не бегают ли у того глаза. Как предвестник руководящего гневного взрыва шея нашего Дорогого Гостя начала наливаться краской.
Выручил парень в выцветшей гимнастерке, оказавшийся рядом. Он выпустил клуб дыма и мирно пояснил:
— Не воспринимайте с обидой, товарищ командир. Петрович говорит, что летом тут вечно морось, а зимой снег люто метет.
Хрящев взглянул на парня с удивлением, однако шея его тут же стала бледнеть.
— Надо изъясняться по-русски, — сказал он все еще раздраженно.
— Так то и есть по-русски, — опять вступил молодой. — Конечно, не как по радио из Москвы говорят, а исконно. Народ у нас великий, и говор у него разный. Тут все понимают.
Хрящев успокоился и решил все свести к шутке.
— Лысина у тебя ничего, — сказал он старику. — Вроде моей…
Он снял шляпу и повел ладонью от бровей до затылка.
— Чему дивиться? — пожал плечами Петрович. — Горе с сединкой, годы — с лысинкой. Я, чай, и сед и лыс.
— Много ли лет набрал? — спросил Хрящев. Он явно рассчитывал перевести разговор на иную тему. — Пенсия есть?
— Как не быть, — старик курнул, пустил дым из носа и сплюнул. — Государствием привечен. Не жалуюсь. На табак вполне хватает. А вот на хлеб зарабатывать приходится. Вишь, топор в руки и рубим рубли.
Старик бросил окурок, затоптал его и прикрикнул на артель:
— Приступай, робяты! Кончай ночевать! — Повернулся к Хрящеву и поклонился ему. — Прощай, мил человек. Нам болтать некогда.
И с азартом застучал топором.
Наш Дорогой Гость, увидев, что на него уже никто не обращает внимания, надел шляпу и отвел Первого в сторону. Я случайно оказался неподалеку.
— Плохо, — сказал Хрящев раздраженно. — Просто недопустимо, когда народ не узнает своих руководителей в лицо. Это ваша общая недоработка. Тебя, положим, они вполне могут не узнать. Ты тут обюрократился. Из кабинета не вылезаешь, по колхозам не ездишь. У меня есть информация. Но меня должны узнавать. Должны! И если этого не добиться политической работой, черт знает что будет дальше…
— Темные люди, — попытался оправдаться Первый. — Вы сами видите, Никифор Сергеевич. В глуши сидят. И язык у них такой — падера, мжица, дряпня…
— Не в этом главное, — обрезал Хрящев. — Настроение у них гнилое, не наше. Сталина они здесь все знали. И потом этот старик… Что ни слово — то недовольство. Пенсия, видишь ли, ему мала. На хлеб зарабатывать приходится. Короче, у него не наше настроение, а как это там? — дряпня. Вот где беда. И таких надо гнать сраной метлой с руководящих постов. А он у вас в бригадирах над плотниками ходит. Будто здесь нет советской власти. — Хрящев вытянул руку и сжал пальцы в кулак. — Вот как их всех держать надо. И спуску не давать. Ни на миг. Зажал и держи!
Я смотрел на Большого Человека во все глаза и видел Михайлу Проскурина.
Слышал хорошо пропитой голос нашего Дорогого Гостя, а в ушах звенели философские поучения, вынесенные памятью из детства: «Ежели мы человека хочим переделать, то не надо жалеть его…»
— Зажал и держи, — повторил Хрящев. — А вы тут только я делаете, что послабляете…
Он постоял, помолчал, потом сплюнул:
— Дряпня!
Изрек и пошел к машине.
— В Молокановку! — командирским голосом возвестил Первый.
Машины, урча и газуя, стали разворачиваться на узкой дороге.
— Задержимся, — попросил меня Бион. — Я с этим Петровичем парой слов хочу переброситься.
— Прищучить, что ли, собрался? — спросил я с сомнением.
— Ради бога, не подумай! — искренне ужаснулся Бион. — Просто мне лично интересен этот человек. Ведь как держался…
— Может, не знал, с кем говорил, — высказал я лицемерное предположение.
— Мало верю, — возразил Бион с жаром. — Такой дед и черта ночью в лицо признает. И в этом мой к нему особый интерес.
Мы вернулись. Плотники яростно стучали топорами.
— Возьми городских, отец, — предложил Бион и протянул старику пачку «Явы». — Бери всю.
— С чего така милость? — спросил старик недоверчиво. — Вроде нет у тебя причин мне подарки дарить. Или ты следователь? Мол, курите, гражданин.
— Хорошему человеку не жалко, — сказал Бион.
— Пошто уверен, что я хороший?
— На глаз, — ответил Бион с улыбкой. — Начальству такое впрямки выложить далеко не каждый горазд. Узнал ведь, кто с тобой беседу вел?
— Как не узнать! — сказал старик и засмеялся. — Ишшо как узнал! Чисто портрет в сельсовете. Пепа, что пепеки…
Бион с недоумением посмотрел на меня.
— Что такое «пепа»?
— Здесь так говорят, у кого физиономия толстая, важная…
— Ну, старик, — выдохнул Бион удивленно. — А ты ко всему и злой. Он у вас как-никак — гость. И человек важный. Как мы говорим: Большой Человек.
— Я разве супротив? — сказал старик с вызовом. — Сам вижу — важный. Только тогда не надо с портрета слезать, если с народом боязно. Виси себе на стенке, никто ничего не скажет. Ишшо поклонятся, как иконе. Ну, а коли слез — слухай. И потом у нас, — Петрович кивнул на меня, — договор был только мост строить. Наперво все старое сломать, навторо — возвести новое. А чтобы лестью кого ублажать или митинг околачивать — я на тако не подряжался. Так ведь?
— А что ты про оборону говорил? — спросил Бион. — Против кого ее держите?
— А те не ясно? — заулыбался старик. — На вид ты, вроде, умной…
— И все же?
— Держали, чтоб ОН не проехал. Таперя вроде отбились.
— Почему так негостеприимно?
— А то, что он мужик больно лихой. Кукурузой всех накормить обещал. А мы ее и в глаза не видели. Не растет она в нашем краю и все. Потому умные люди сказали, что у него новый план таперя завелся. Скоро банану по всей стране повелит сажать и обезьян разводить. Заместо населения, значит.
Плотники, стучавшие топорами, засмеялись.
— Дает Петрович!
Ободренный поддержкой, бригадир ввернул поговорку:
— Велик сан, а сам — лысан. Хотел меня перелысить, да сосклизнул. Не обманул меня, значит…
Старик посмотрел на артельных, которые шевелились не так как ему хотелось, и смачно выругался:
— Ух, растуды твою балалайку! А мост-то и впрямь неплохой будет. Бери, робяты, веселее топоры. Не ленись, знай, не ленись! Венька, пентюх, пазгай толком! Пазгай! И гвозди не трожь! Гвоздем прихозать — пустяк. Ты-ко в лапу втеши…
Попрощавшись, мы двинулись к машине.
— А у вас, старик, — сказал мне Бион, — большой прокол. Не знаю, как поступит САМ, но я бы на его месте у Первого со спины лыко содрал. Верняком, на этом этапе не продумали толком, кого подпускать к Никише. Помнишь, я тебе объяснял? Теперь сам видишь, насколько это важно.
Я промолчал, поскольку продумать всю операцию до конца, научить людей, какие комплименты говорить Дорогому Никифору Сергеевичу, у меня просто не было времени, а потому стружку следовало в случае чего снимать с моей спины. Ведь именно я, спасая честь области, вопреки всем сценариям собрал и вывел мужиков на стройку, оплатив из отпущенных Коржовым сумм все работы по слому старого и возведению нового моста. Но ведь и наш Дорогой Гость мог остаться там, где кончался асфальт. А он, никого не спросив, решил пообщаться с массами трудящихся. Мог ли я знать, что массы окажутся такими строптивыми?