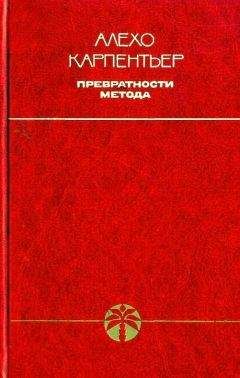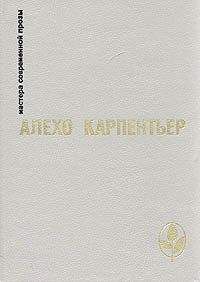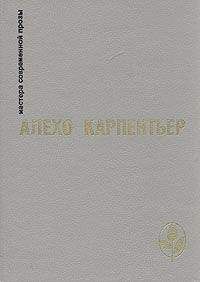Развлекаясь и возмущаясь — но чаще развлекаясь, чем возмущаясь, — созерцал по утрам Глава Нации эту панораму жульнических проделок и комбинаций, поразмыслив, что самое лучшее, чем можно вознаградить верность и рвение своих людей, так это выдать им соленое креольское словечко. Тем более он не был — и никогда не бывал — сторонником мелочных сделок. Владелец предприятий, управляемых через подставных лиц, он представал Властелином рыб и хлебов, Патриархом посевов и отар, Повелителем ледников и Повелителем родников, Господином путей сообщения по воде и по суше — многообразны были сочетания коммерческих знаков и символов консорциумов, торговых фирм, неизменно анонимных обществ, не знающих ни убытков, ни краха.
И все же, созерцая свои утренние витражи, Глава Нации не мог не обратить внимания на то, что вопреки террору, проводимому после взрыва во Дворце первой бомбы, стало давать о себе знать нечто — некая сущность, которой его людям ни схватить, ни убить, что ускользало из их рук, чему не могли положить конец ни аресты, ни пытки, ни введение осадного положения. Это нечто бурлило в недрах, в земных глубинах; возникало в неведомых городских катакомбах. Нечто новое заявляло о себе по всей стране; его проявления нельзя было предусмотреть, и нельзя было раскрыть его существо-Главе государства такое казалось совершенно необъяснимым. Похоже, что и сама по себе обстановка изменялась под воздействием какой-то неосязаемой пыльцы, притаившегося фермента, убегающей, ускользающей, скрытой и все-таки выказывающей себя силы, молчаливей, хотя с живым пульсом кровеносной системы — в ежедневном выпуске подпольных листовок, манифестов, прокламаций, памфлетов, печатаемых на бумаге карманного формата в типографиях-призраках («…неужели вы не способны установить местонахождение столь трудно скрываемого, столь шумного заведения, как типография?» — кричал Глава Нации по утрам в те дни, когда его распаляло бешенство). В листовках его уже не оскорбляли по-креольски, на жаргоне трущоб и пустырей с игрой слов и дешевыми остротами, как бывало ранее, — теперь его клеймили Диктатором (и слово это ранило куда глубже, чем любой грязный эпитет, любое нецензурное прозвище, ведь такое слово было разменной монетой за границей, прежде всего во Франции!). Без прикрас, в резких выражениях листовки разоблачали перед народом многое: намерения, сделки, решения, физическое устранение неугодных… все, что ранее никогда не стало бы достоянием посторонних… «Но… кто, кто, кто публикует эти листки, эти пасквили, эту гнусную клевету?» — кричал каждое утро Глава Нации перед всегдашними витражами обливавшихся потом, судорожно морщившихся в полном отчаянии доверенных лиц, бессильных найти ответ. Что-то лепетали и синие, и белые, и желтые — подчиненные регламентарных цветов; что-то отмечали за ними запутавшиеся вконец, потерявшие ориентировку, изрядно слинявшие за это время собратья по опознаниям и дознаниям, хотя и сходились все на одном — нужно немедля устранить. Кружили вокруг текстов, искали виновных меж строк. Нет, конечно, это были не анархисты — они поголовно арестованы; не приверженцы Луиса Леонсио Мартинеса — они сидят в разных тюрьмах страны; и, конечно, не трусливые оппозиционеры других мастей — каждый из них зарегистрирован в полиции, находится под наблюдением, а главное — они не располагают необходимыми техническими средствами, чтобы содержать подпольную типографию, постоянно и активно действующую… И так получилось, что путем предположений, гипотез, брошенных на ковер подсчета возможностей, сочетая отдельные буквы, как кусочки в английской головоломке — puzzle, добрались до слова К-О-М-МУ-Н-И-З-М; последнее, что пришло на ум… «В конце концов, — об этом размышлял вслух Глава Нации, оставшись наедине с Перальтой, — мы, как, впрочем, и все латиноамериканцы, ужасно любим охотиться за новинками. Едва разнесется что-то по свету — любая мода, любой продукт, любая доктрина, любая идея, любая манера рисовать, писать стихи, высказывать бред собачий — и тотчас же всё с восторгом подхватываем. Именно так было с итальянским футуризмом, как и с Жювенсией французского аббата Сури, с теософией и с бальными марафонами, с учением немца Краузе[253] и вертящимися столиками. А ныне еще этот русский коммунизм — чужеродный, невероятный, осужденный всеми честными мыслителями после скандального Брест-Литовского договора, — ныне он протягивает свои щупальца к нашей Америке. К счастью, сторонников не имеющей будущего доктрины, чуждой нашим обычаям, немного, — во всяком случае, их деяния не очень-то заметны. Однако…» Однако эту доктрину только что определили возможным двигателем происходящего, и перед присутствующими вдруг возник пренебрегаемый доселе образ одного юноши по фамилии Альварес, не то Альваро, не то Альварадо, — досконально Перальта не мог вспомнить, — более известного как Студент; тот, который в одной из своих речей, на редкость агрессивной, заявил: «Во мне вы видите лишь еще одного студента, обычного студента, Студента»; тот, который выдвинулся во время прошлых студенческих волнений. Недавно агент-осведомитель слышал, как тот в хвалебном тоне говорил о Ленине, свергнувшем Керенского в России и начавшем там раздел богатств, земель, скота, серебряных столовых приборов, женщин… «Так что надо разыскать его, — сказал Президент. — В лучшем случае тут и найдем что-то». Однако привычный витраж каждого утра вскоре превратился в картину горя. Невозможным оказалось схватить Студента.
И поскольку за ним никогда не велось особого наблюдения — опасным юношу не считали, похоже, он интересовался скорее поэзией, чем политикой, — то мнения экспертов службы безопасности насчет его внешнего вида, роста, физиономии, корпулентности не совпадали. Одни эксперты говорили, что у него зеленые глаза; другие утверждали, что карие; третьи убеждали, что он атлетического сложения; четвертые уверяли, что человек он хилый и болезненный. По записи в университетском матрикуле — ему 23 года, сирота, сын школьного учителя, погибшего во время бойни в Нуэва Кордобе. Так или иначе он должен был находиться в городе: нагрянув в его убежище, полиция обнаружила неубранную постель, свидетельствовавшую о недавнем пребывании владельца, а также наполовину опорожненную бутылку пива, сожженные бумаги, окурки сигарет; однако на полу лежала книга, а именно — первый том «Капитала» Карла Маркса, купленный, как можно заключить по наклейке, в книжном магазине «Атенеа» Валентина Хименеса, ныне находящегося под арестом за продажу Красных книг. «В точку! — воскликнул Глава Нации, узнав обо всем. — Кретины забирают «Красное и черное» и «Шевалье из Красного замка», а на витринах оставляют более опасные книги!». Вспомнив, что Именитый Академик там, в, Париже, однажды говорил ему о «марксистской опасности», о «марксистской литературе», Глава Нации приказал Перальте («более интеллигентному, чем эти паскудные детективы, — не напортит…») собрать и доставить всю литературу такого типа, сколько отыщется в городе… Два часа спустя на столе президентского кабинета были разложены тома: Маркс — «Классовая борьба во Франции с 1848 г. по 1850 г.», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская война во Франции (1871 г.)». «Ба!.. всё это предыстория, — сказал Глава Нации, отодвигая книги небрежным жестом. — Маркс и Энгельс: «Критика Готской и Эрфуртской программ…» — Это, по-моему, памфлет против европейской аристократии… Гота, как ты знаешь, — некая разновидность ежегодного телефонного справочника принцев, герцогов, графов и маркизов… — Энгельс: «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»… — Не верю, что такое может сбить с толку наших трамвайных вагоновожатых… — Маркс: «Заработная плата, цена и прибыль».
И Президент стал читать вслух: «…определение стоимости, товаров относительными количествами фиксированного в них труда есть нечто совершенно отличное от тавтологического метода определения стоимости товаров стоимостью труда или заработной платой…». Что-нибудь понял? Я — ничего». Маркс: «К критике политической экономии»… Полистал взятый наудачу том и со смешком заметил: «Э, да тут стихи по-английски, стихи по-латыни, стихи по-гречески… Посмотрим, может, этим подучат Мажордомшу Эльмиру» («Меня, видимо, считают большей дурехой, чем есть на самом деле», — буркнула та, задетая за живое…). Все еще посмеиваясь, он взял другой том:, «Ага! И знаменитый «Капитал»!.. Ну-ка, взглянем:
«Первый метаморфоз товара, его превращение из товарной формы в деньги, всегда является в то же время вторым противоположным метаморфозом какого-либо другого товара, обратным превращением последнего из денежной формы в товар… Д−Т, т. е. купля, есть в то же время продажа, или Т−Д; следовательно, последний метаморфоз данного товара есть в то же время первый метаморфоз какого-либо другого товара. Для нашего ткача жизненный путь его товара заканчивается библией, в которую он превратил полученные им 2 фунта стерлингов. Но продавец библии превращает полученные от ткача 2 ф. ст. в водку. Д−Т, заключительная фаза процесса Т−Д−Т (холст — деньги — библия), есть в то же время Т−Д, первая фаза Т−Д−Т (библия — деньги — водка)».