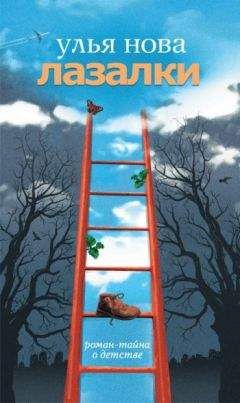Галя сидела за кухонным столом, прислушиваясь к далекому гулу шоссе. В ее груди чернели обугленные головешки и разгоралась яростная жажда поскорее выпить и забыться. Тогда она начинала еще сильнее с нетерпением ждать, что совсем скоро в Черном городе кто-нибудь старый-престарый уснет и не проснется или кто-нибудь маленький и непоседливый, не удержавшись, сорвется с высокой, шаткой лазалки. Потом будут похороны, за ними – поминки. Галю посадят за длинный стол, накрытый во дворе или в большой комнате. Посадят на деревянный стул, за белую скатерть или клетчатую клеенку, рядом со всеми. Перед ней поставят бутылку, открутят крышечку, и уже три секунды спустя водка, всхлипывая, польется в ставшую бесхозной большую чашку с отколотой ручкой. Галя, не моргая, сожмет чашку в ледяных ладонях, одним махом поглотит содержимое. Робко пододвинет опустевшую чашку на середину стола, чтобы ей налили еще, чтобы ей помогли поскорее забыться и сбежать из Черного города.
Так происходило довольно часто, по вечерам. Галя ждала на пятом этаже, за кухонным столом, в сумраке, прислушиваясь к гудкам и выкрикам Черного города. А тремя этажами ниже бабушка строчила на машинке, в городе лазалок, стараясь не выпускать наружу птицу тревоги, слепую безумную птицу, рождение которой предвещает беду. Это было молчаливым состязанием ожиданий, схваткой надежд. И бабушка оказывалась сильнее.
За нами никто не приглядывал, не звал обедать, не качал головой из сумрака между тюлевыми занавесками. Мы с Мариной были предоставлены самим себе. Бабушка с утра ушла на работу, в больницу. Деда перевели из реанимации в палату, где он целыми днями без интереса листал газеты на скрипучей железной кровати, с тремя будильниками, что тикали вразнобой на низенькой тумбочке. Маринина мама, как всегда, с утра мыла подъезды и сырые лестничные клетки окрестных домов. Маринин отец неподвижно сидел в кресле, рядом стояла табуретка, на ней – тарелка, полная окурков. Соседка Сидорова, которой нас поручили, крепко спала после работы. У нас в запасе оказалась уйма медленного, дружелюбного времени, пропитанного пыльной листвой и вкусом черной рябины. Мы висели вниз головами на лазалке-мостке, наблюдая, как раскачивается перевернутый город. Сквозь низкие облака пробивалось рассеянное солнце. Как старый актер, неохотно откланяться перед окончательным наступлением осени. Потом мы носились друг за другом в лабиринте из полотенец, простыней и колгот, цепляясь за чужие пододеяльники и скатерти, что колыхались на веревках, посреди двора. Надо было столько успеть, а время уже близилось к обеду. И мы отчаянно дергали за метелки травы, спрашивали, «петушок или курица», кружились на ржавой скулящей карусели, свешивались с холодных сидений, касаясь ладонями, волосами и щеками песка. Мы рвали под окнами черную рябину, сначала по нескольку ягод, потом жадно и безжалостно обдирали с веток грозди. Ягоды окрашивали ладони, губы, зубы и языки сладким, вяжущим, черным-пречерным соком. Прохладный осенний ветер, проснувшись, вырвался из подвалов, трепал листву кленов и Маринин выгоревший желтый сарафанчик, перепачканный песком, пылью и ягодами. Но мы упрямо, назло ветру резвились в лучах безразличного больничного солнца, которое утрачивало интерес к лужайке и все чаще отсиживалось за облаками. Мы носились, сжимая в кулаках грозди черной рябины, кружились, сцепившись за руки, клевали ягоды. Постепенно, час за часом, мы обошли все лазалки, уделили внимание перекошенным скрипучим качелям и деревянной горке. Наши ладони пропахли холодными, чуть ржавыми перекладинами, голубыми хлопьями краски, песком, липким соком ягод.
Неожиданно все крики умолкли. Гудки, шелест, скрипы, постукивания вокруг дома – стихли. Нарастающая тишина ни о чем не сообщала, не подталкивала, не напоминала, а только ждала. И мы с Мариной, хором, без слов, прониклись уверенностью, что никто не отправится разыскивать нас в ближайшие полчаса. А значит, скорей! Сначала в невидимку превратилась Марина. Она разжала кулак, и потерявшие всякий смысл черные ягоды раскатились по асфальту. Марина расправила сарафанчик, умолкла, насупилась и прибавила шаг. Я брела следом, следя краем глаза за подъездами и всем, что мелькает и движется вокруг. Особенно настораживали старушки, бабушкины знакомые, бывшие пациентки, жены больных. Их надо было старательно обходить, чтобы не нарваться на расспросы. На сюсюканье. На обиженное: «Чего это ты не здороваешься?» И я тоже на всякий случай превратилась в невидимку, растворившись в сером сыром воздухе городка, напичканном горьковатым дымком котельной, запахом фиалок и мокрых половых тряпок. Я плавно и тихо следовала за невидимой Мариной, стараясь почти не дышать, не шлепать сандалиями, не рвать с кустов, что росли под окнами, шипы и листья, не окликать бредущую в проулок дворнягу, не махать вослед самолету. Но потом, почти одновременно, мы сдались, взвизгнули и со всех ног понеслись мимо низенького деревянного общежития, двери подъездов в котором разрисовал Никанорыч, чудак-художник. Раньше мы тайком приходили сюда, чтобы как следует рассмотреть рисунки. Цветы, деревья, птиц и облака на черных-пречерных дверях барака. А еще послушать ругань и звуки пианино, вылетающие из перекошенных форток.
Теперь мы неслись, распугивая кошек, голубей и собак, к пустырю, где недавно, за одну ночь возникла квадратная лазалка с лестницами, цепями и качелями. Раньше, притаившись за углом дома, мы часто наблюдали, как старик с рюкзаком брел через пустырь в сторону кладбища и Жилпоселка. И при каждом его рывке в рюкзаке позвякивали шарики. Серебряные, ржавые, окрашенные зеленой, желтой или синей краской. Когда же старик перепрыгивал через канаву, отмахивался от назойливой птицы-тик, из дыры выпадал шарик. Пык. Один из тех, которые мы постоянно разыскивали возле подъездов, под кленами, на лужайке, в дальних, послевоенных дворах. Если никто не подбирал, не выковыривал его из глины или из песка, то вскоре на том самом месте за одну ночь возникала лазалка.
Там, на пустыре, между двумя красными лестницами новой лазалки, – высокий турник, страшное и сладостное испытание, на которое надо решиться не раздумывая. Это не так-то просто. Запретить тревожным мыслям и страхам возникать в голове. Добровольно сделать это невозможно. Проще на бегу загадать: сейчас я перекувырнусь, и деда совсем скоро выпишут из больницы. А продавцы снов не потеряют еще одну маленькую гирьку. Они не станут каждый вечер подкладывать деду снов больше и больше. И дед никогда не попадет в больницу снова. Сейчас я перекувырнусь, и мама приедет не в субботу, а в пятницу вечером. Она будет счастливой из-за того, что деда выписали и все обошлось. Когда мама веселая и счастливая, она сияет. За ее спиной переливаются на солнце всеми цветами радуги перепончатые крылья стрекозы. В комнатах, освещенных тусклыми пыльными лампочками, становится светлее. Мама включит на проигрывателе пластинки. И полусонная перетопленная квартирка наполнится рок-н-роллом, который лучше любых будильников распугивает сны. Бабушка начнет упрашивать, чтобы сделали потише, а то соседи. Я перекувырнусь, мама приедет и начнет выкладывать из большой дерматиновой сумки гостинцы. Овсяное печенье. Конфеты «Три медведя». Большущей горой подарков из Москвы прямо на кухонный стол, с перевернутой столешницей, о черном пятне которой так никто и не знает. Я перекувырнусь, и мама, увидев залитый зеленкой шкаф в ванной, не превратится в маленькую и несносную птицу гнева. Не придется снова прятаться от нее в раздевалке. И дед не станет, всхлипывая, шептать, чтобы я не обижалась, ведь мама снова привезла камень из Москвы. Какой-то неизвестный камень, видимо пресс для квашения капусты, который люди часто носят внутри.
Марина всегда бежала впереди. Она тоже загадывала и не хотела, чтобы кто-нибудь видел в это время ее лицо. Ей казалось, что так можно нечаянно узнать, что она там себе наметила. И тогда ничего не сбудется. Я догадывалась, что Марина кувыркается, чтобы ее отец поскорее нашел работу. Маринина мать убирает подъезды, но денег все равно не хватает. Маринина мать уходит на работу рано утром, затемно. Она метет дворы. Согнувшись, в застиранной серой спецовке, драит кафель перед чужими дверями. И соскребает черные выжженные надписи на стенах. Недавно, понизив голос, бабушка открыла тайну, что Маринина мать два раза в год ложится в больницу. Наверное, это все из-за черных сердец, замурованных в стены подъездов, из-за черных сердец, которые иногда начинают оглушительно биться. Тогда на уборщиц набрасывается удушающий кашель. И уборщицы, согнувшись, сотрясаются под лестницами, стараясь не нарушать тишину раннего утра, чтобы не будить детей, собак, поломанных мужиков в майках и старичков. А еще канареек и краны, которые, проснувшись, всегда начинают свистеть. Марина наверняка загадала, чтобы эта осень была сухой и теплой, тогда школьники будут ходить в турпоходы и отца снова возьмут на работу. У нее слишком сложная задача, поэтому ее кувырок на высоком красном турнике должен быть безупречным.