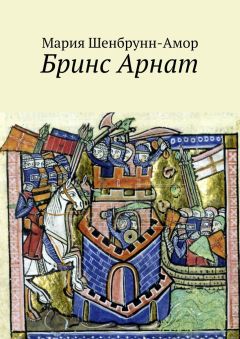Куда писать — в Киото, Нару, Хоккайдо, Таиланд? На западный берег крайнего японского севера?
Позвонила и Паулина.
— Нина, вы должны встретиться со мной.
Императивный, не предполагающий отказа тон.
— Что-нибудь случилось?
— Это невозможно объяснить по телефону. — Глубокое тягучее молчание.
Что ж… Беспомощность и беззащитность — тоже оружие.
И вот мы сидим на скамье в городском сквере. У наших ног — обширная лужа с плавающими по ее поверхности серо-бурыми, подгнившими за зиму листьями. Почему не в кафе, не на почте, не в банковском холле, не в машине, наконец? Нет, на пропитанной сыростью лавке, отгородившись зонтиками от моросящего дождя. Надо полагать, для конспирации. Открытые пространства, к которым относятся и скверы, внушают некоторое доверие борцам за свободу и демократию: позволяют надеяться, что под садовыми скамейками большевики еще не успели установить подслушивающие устройства.
— Нина, вы не представляете — происходит нечто ужасное, — сообщает Паулина и, не выдержав груза душевных мук и беспрестанных своих несчастий, захлебывается судорожным рыданием.
— Что именно? — спрашиваю я вяло.
На соседней скамье сизым флагом полощется рваный мусорный пакет. Зацепился за спинку и никак не может высвободиться. Какой же это безобразник умудрился бросить в ухоженном чистеньком сквере скверный мусорный пакет? В этой стопроцентно стерильной стране…
— Он посещает… советское консульство, — произносит наконец Паулина и вновь захлебывается рыданием. — Он хочет уехать! Вернуться к ним… Извините меня. Я не владею собой…
Значит, правда, значит, советское представительство не просто шантаж от бессильной злобы и обиды на капиталистических спрутов, не запертый покамест на все замки запасной выход, а уже реализуемая возможность. Забавно: останься он в Ленинграде, никого бы его персона не волновала — даже районного врача-психиатра. Устройся он на Западе каким-нибудь нормальным и пристойным образом — опять-таки не вызывал бы заурядный российский эмигрант господин Пятиведерников ни у кого особого интереса. А вот полностью раздавленный, отверженный, беспомощный и бесполезный, потерпевший фиаско на всех фронтах и к тому же эмоционально и душевно неуравновешенный — представляет уже немалую ценность для родной советской власти.
— Ну и замечательно, — говорю я. — Пускай возвращается.
— Вы шутите?
Нет, нет и нет! — лучше ей умереть, провалиться сквозь землю, сгореть в адском пламени, распасться на элементарные частицы, чем дожить до такого позора, до такого крушения всех идеалов! И что будет с теми несчастными, которые вот теперь, в эту минуту, борются за право на выезд, за возможность покинуть тюрьму народов, вырваться из советских психушек? Вот, скажут им, вот он перед вами — тот, который выехал, вырвался, покинул! Вот он приполз на брюхе и лижет ручки советской власти, лишь бы избавиться от западного рая. И неизвестно, что еще они заставят его делать и говорить — клеветать, предавать, разоблачать!
— Бросьте, Паулина, не преувеличивайте, — вздыхаю я. — Что бы он там ни сделал и что бы ни сказал, все равно никто не поверит.
— То есть как — не поверит?!
— Вы не знаете советских людей — они давно ничему не верят.
— Как же можно не поверить, если он сам скажет?
— Можно. Поймут, что изначально был заслан. Засланец. Засылают, чтобы потом вернулся и клеветал. Такая общественная нагрузка. Выдают за это талоны на буженину и пыжиковую шапку.
— Зачем ему шапка? Я куплю ему три шапки!
— Да не нужны ему ваши три шапки здесь, ему хочется одну, но там. Вы не понимаете? Он устал от пренебрежения к своей персоне. Ему требуется действие, свершение. Поступок. Слава — пускай самая что ни на есть дурная, но громкая. Признание. Хочется пребывать на подмостках, в лучах телевизионных прожекторов.
— Я просто не верю вашим словам, не верю тому, что слышу! — негодует она. — Вы беретесь превращать такое серьезное дело в глупый смех! Он не был заслан! Вы сами прекрасно знаете это. Не помню, как это сказать… Вам известен его послужной список.
— Паулина, дорогая, послушайте меня, — пытаюсь я вразумить ее. — Вы пытались помочь. Вы сделали все, что могли. Совершили доброе дело. Многим пожертвовали и достаточно за это пострадали. Но пора признать, что ничего из этого не вышло. Нужно уметь признавать ошибки…
— Ошибки?! — повторяет она так, будто я произнесла нечто абсолютно неприличное и оскорбительное.
— Да, ошибки. То есть вначале это не была ошибка: это был мужественный и благородный поступок. С вашей стороны. Но теперь давно уже ясно, что он безнадежен. Этот человек безнадежен. Он не создан для того, чтобы жить на Западе. Он вообще не создан для того, чтобы жить тихо и спокойно. Привык бороться за права заключенного. Не важно за что, но бороться. А если не заключен, то за что же бороться? Где цель и подвиг? Утрачен всякий смысл существования.
Я чувствую, что могла бы и дальше развивать психологический портрет нашего героя, но удерживаюсь и умолкаю.
— Каждый человек приходит в этот мир, чтобы быть свободным, — произносит она убежденно. — Это потом они умеют закабалить…
— Допустим, — соглашаюсь я. Дождик постукивает по нашим зонтам и щекочет поверхность лужи. Слипшиеся желтые листья колышутся в мутной воде. Стылый холод выползает из земли и просачивается в сапожки. — Возможно, если бы его жизнь изначально сложилась иначе, он сегодня умел бы правильно распорядиться своими силами и свободой. Занялся бы каким-то интересным плодотворным делом. Если бы оставался полноценной личностью. Поймите, не может он сегодня начать нормальное существование. Он сломлен, не приспособлен. На все смотрит сквозь кривую и потрескавшуюся линзу прежнего опыта. Не в состоянии заняться никаким полезным трудом, ни в коем случае не готов стать частицей этого общества. Вы пытались совершить невозможное. Все, хватит — перестаньте опекать и спасать его.
— Я не думала, что вы так циничны и жестоки. — Голос ее дрожит. — И даже если то, что вы говорите… если вы все видите правильно… все равно, всегда есть место чуду. — Она поднимается со скамейки и покидает меня.
Вот так — встала и ушла. Завлекла в пустой, прокисший от сырости сквер и покинула. Унесла с собой свое отчаяние и оставила сидеть тут и созерцать грязную лужу и размокшую дорожку. «Циничны и жестоки»… Возможно. Со стороны виднее. Не исключено, что она права. Не исключено, что она лучше и добрее меня. Но все, хватит — я не желаю больше заниматься проблемой Пятиведерникова! Имею полное право не желать и не заниматься.
«А на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная. Я было уж воротиться хотел…» Да, пора воротиться. Воротиться к своему очагу, к своим кастрюлям — котлам, горшкам — и позабыть о них обоих. Надо же — сколько людей проживает в этом городе, в этих симпатичных особнячках, выкрашенных в серый, бурый и малиновый цвет — излюбленная местная палитра, — в этих рентабельно распланированных удобных квартирках, а утешить Паулину некому. Местному обывателю не до российских трагедий…
Вернувшись домой, я обнаруживаю в почтовом ящике свое письмо, с месяц назад отправленное наконец Любе. Крупный лиловый штамп поперек конверта: «Адресат выбыл». Как — выбыл?.. Куда выбыл? Когда, почему?! Это я виновата — что я натворила! Разве можно было так долго тянуть? Ничто, ничто не прибавляет ума! Ни прожитые годы, ни многие опыты… Вероятно, что-то было там — в том ее письме, которое я умудрилась потерять. Что за чушь! Выбыл… Как это может быть? Нет, нет… Спокойствие. Никаких трагических предположений. Позвоню ей. Подумаешь — делов! Вот сейчас же прямо возьму и позвоню.
Не раздеваясь, в пальто и сапогах, с которых на пестренькую дорожку, устилающую коридор, стекают остатки уличной влаги, я набираю номер междугородней телефонной станции — дважды ошибаюсь, но с третьего раза все же накрываю цель и прошу соединить меня с Ленинградом. «Можем принять заказ на завтра», — отвечает вежливый казенный голос. «Почему — на завтра? А сегодня?» — «Невозможно». — «Почему?» — «Нет телефонных линий». — «Хорошо, пусть будет на завтра». По-прежнему не снимая пальто, опускаюсь в кресло возле столика и смотрю на телефонный аппарат, как будто жду от него каких-то разъяснений — новых, более человеческих слов. Как будто собираюсь сидеть тут до завтра, до возникновения в трубке родного Любиного голоса: «Нинок! Ты где это там запропастилась?..» Когда мы в последний раз разговаривали? Давно. Год назад… Может, и больше. Не потому, что дорого, а потому, что письмо как-то понятнее и сердечнее. Что можно сказать по телефону? Особенно ощущая, что каждое твое слово прослушивают чужие, заведомо враждебные официальные уши. Письма, разумеется, тоже читают, но, по крайней мере, не в твоем присутствии, не в самый момент их написания.