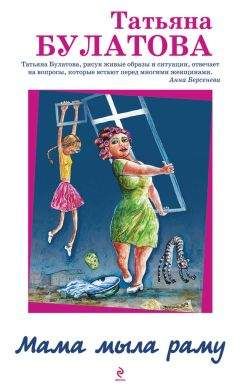Даже невооруженным глазом было видно, как по-девичьи округлилась, вытянулась и окрепла за минувший год Катерина. Но тем же невооруженным глазом можно было заметить, как сдала ее мать. Казалось, она даже стала как будто меньше ростом. И не то чтобы Антонина очевидно постарела… Нет, из нее просто улетучивалась эта хорошо знакомая Катьке величественность, поэтично воспетая Солодовниковым. Секрет был прост: Антонина Ивановна Самохвалова все чаще и чаще признавалась себе в том, что она ничего не знает, ничего не понимает, никуда не успевает и никому не нужна. Поэтому суетилась, совершала много мелких движений, ставила перед собой массу задач, а решала от силы две. Антонина сдавала позиции. Одну за одной. И отвоевывала их у нее собственная дочь, неожиданно почувствовавшая себя взрослой.
– Это я-то не замечаю? – начала наступать на Катьку Самохвалова.
– Ты!
– Значит, я? – поджала губы Антонина Ивановна. – Я-а-а… А знаешь ли ты, Катя, чего мне стоило тебе эту жизнь сохранить? Сколько бессонных ночей мне это стоило? Сколько слез мне это стоило? И ради чего? Ради того, чтобы ты, как только титьки выросли, мне тыкать начала? Значит, когда тебе плохо, мама нужна. А когда хорошо, не больно надо? Что ж ты, когда в Москву тебе приспичило ехать на Андрюшечку посмотреть, мне всю плешь проела? А когда маме твоей глоток свежего воздуха понадобился морского, дулю выкатила? Я-а-а-а в твою жизнь вмешиваюсь?! Я-а-а-а?! Да если бы не ты, я б давно уже счастливо жила, по углам не мыкалась, замуж вышла, как сыр в масле каталась! Ты у меня сколько лет отняла? Сначала отец твой, потом – ты! Сколько лет! И вот теперь силу свою почувствовала? Мама не нужна? Подыхай, мама?!
– Я такого не говорила, – сделала шаг вперед Катька.
– А и говорить не надо! – скривилась Антонина. – И так все видно.
Самохвалова расцепила сложенные на груди руки и ткнула в дочь пальцем:
– А теперь слушай меня, сопля зеленая! Рот свой закрыла, чтобы я тебя больше не слышала. Пока я тебя кормлю, пою и одеваю, будешь делать то, что тебе положено. А не будешь – придушу собственными руками, раз до сих пор сама не задохнулась. Поняла?! – грозно переспросила Антонина Ивановна, и Катька под ее напором попятилась. – Поняла, я спрашиваю?
Девочка съежилась и попыталась проскользнуть в комнату, но не тут-то было. Самохвалова схватила Катьку за руку с такой силой, что на запястье проступили красные пятна.
– Поняла?
– Поняла, – выдохнула Катерина, и Антонина ослабила хватку.
– Вот так-то! – праздновала победу Самохвалова, глядя дочери вслед.
Вечером пришел Солодовников, в очередной раз воскресший и допущенный в святая святых – самохваловское жилище. Инициатором его прихода выступила Антонина, накануне принявшая от своего поклонника предложение о совместном отдыхе в Крыму. Дело оставалось за малым, обещала ему Антонина Ивановна, Катьку уломать – и все, можно брать билеты.
Помня предыдущий опыт, встречи с Катериной Петр Алексеевич боялся как огня. Даже перед зеркалом репетировал, чтоб солиднее было и доверие внушало. Галстук подбирал, шляпу, брился начисто, чтоб ни-ни, ни ворсинки, ни волосинки. «Хитрость города берет», – успокаивал себя абсолютно бесхитростный Солодовников и думал, с чего начать.
Еще вчера Тонины слова внушали ему уверенность, а сегодня Петр Алексеевич печально рассматривал свое отражение в витрине гарнизонного магазина, в недрах которого собирался приобрести «что-нибудь к столу». Отражение, прямо скажем, не впечатляло, но зато позволяло прямо на месте произвести экспресс-терапию измученного ночными раздумьями образа.
Плечи сутуловаты? Расправим плечи! Спина сгорблена? Будет как струночка! Штанина задралась? Расправим штанину. Не только штанину – жизнь поправим, расправим, как смятый лист, утюгом прогладим – и все, дело в шляпе. Нечего бояться!
Солодовников улыбнулся отражению в витрине и гордо шагнул к заветным дверям. Все складывалось как нельзя лучше: пирожные, торты, в алюминиевом поддоне – щербет, в стеклянных вазочках – «Кара-Кум», «Красный мак», «Резеда», «Ласточка».
«Нельзя конфеты», – схватил себя за руку Петр Алексеевич, разволновавшийся от радующих слух названий: «Кара-Кум», «Ре-зе-да»…
– Десять заварных, пожалуйста, – попросил Солодовников и достал два двадцать мелочью.
– Пожалуйста, – буркнула за прилавком продавщица и, вооружившись щипцами, схватилась за целлофановый пакет.
– Будьте любезны, – обратился к ней Петр Алексеевич, – положите пирожные в коробку.
– Где я тебе ее возьму-то? – резонно поинтересовалась женщина.
– По положению, – вежливо, но требовательно пояснил Солодовников, – к пищевой продукции прилагается соответствующая тара.
– А чем тебе это не тара? – взмахнула целлофановым пакетом перед самым лицом покупателя побагровевшая продавщица.
– Я настоятельно прошу вас положить мои пирожные в коробку, – тихо настаивал Петр Алексеевич.
– Мужик, – попросила скопившаяся за Солодовниковым очередь. – Ты, давай уже, бери свои пирожные и дай людям отовариться.
– Это не я вас задерживаю, – объяснил Петр Алексеевич.
– Я, что ли? – по-хамски уточнила торговка. – На, бери свои пирожные и иди, куда шел. Коробку ему подавай. Главное, два двадцать мелочью, а туда же – «каро-о-о-опку»!
– Каро-о-опку! – понимающе захихикала очередь и надавила на Солодовникова, в руки которого продавщица вставила прозрачный, но уже измазанный изнутри белковым кремом пакет.
Петр Алексеевич сделал шаг в сторону, с недоумением посмотрел на то, что оказалось у него в руках, и положил пакет обратно на прилавок.
– Деньги не верну! – предупредила его продавщица.
Расстроенный Солодовников побрел к выходу. Настроение оказалось окончательно испорчено.
– Придурок! – бросила вслед тетка за прилавком, воодушевленная одобрением очереди.
– Придурок! – подтвердила продавец из мясного отдела, и магазин зажил привычной жизнью.
Петр Алексеевич прошел вдоль длинной витрины, миновал квасную бочку, корявую будку сапожника, гарнизонное ателье и не на шутку растревожился. В груди недобро подскакивало печальное солодовниковское сердце, а в голове шевелилась одна-единственная мысль: «Дурной знак! Плохая примета!»
– Может, уж и не ходить? – спросил себя Солодовников и задумчиво опустился на скамейку возле Тониного подъезда в ожидании какого-нибудь контрзнака. Из подвального окошка вывалился плебейского рыжего цвета котенок, плод мартовской любви, и уселся ловить блох прямо у ног Петра Алексеевича.
Солодовникову полегчало. Улыбаясь, он нагнулся над животиной и погладил ее между ушами. Котенку это не понравилось, он отскочил в сторону и угрожающе выгнул спину.
– Кс-кс-кс… – не унимался Петр Алексеевич и протянул к котенку свою черепаховую руку.
Дальше случилось то, что должно было случиться. Кошак подпрыгнул на всех четырех лапах и с наслаждением вцепился в Солодовникова.
– Аа-ах ты-ы-ы! – взвизгнул Петр Алексеевич и замахнулся на котенка, после чего тот молниеносно ретировался в спасительный подвал.
На руке выступила кровь. «Нехорошо», – подумал Солодовников и расстроился еще больше.
– Господи, Петя, ну что ты, как ребенок! – закудахтала Антонина Ивановна, рассматривая ранение. – Катя, йод давай!
Катерина распахнула дверку холодильника и достала маленький черный флакончик.
– Ватку на спичку наверни, – руководила процессом Антонина. – Обработать надо.
Девочка поднесла смоченную йодом спичку.
– Мажь! – скомандовала мать. – А я дуть буду.
Катька вытаращила глаза, но отказать в оказании первой помощи не осмелилась.
Пока девочка царапала черепаховую лапу, Антонина Ивановна дула изо всех сил, а Петр Алексеевич смущался и уговаривал всех не беспокоиться и не обращать внимания.
Рана, в сущности, была пустяковая. Страшно становилось от многочисленных историй, к месту рассказанных Самохваловой, – о сорока уколах в живот, о приступах бешенства и даже редких ампутациях. Перспектива в итоге нарисовалась безрадостная.
Перебинтованный Солодовников уселся за стол и печально заглянул в Катькины глаза:
– Катюш…
Девочка сдвинула брови, но взгляда не отвела.
– Поговорим, может?
Катерина строго посмотрела на пациента с перебинтованной черепаховой лапой и молча кивнула.
– Ты бы вот, Катюш, не сердилась на меня. Мне ведь и так страшно. Я ж с девочками-то и не умею разговаривать. У меня парни были. Выросли, я даже и не заметил. У них семьи есть. Внуки у меня, тоже мальчики. Я ведь, Кать, им и не нужен. Вроде они меня и не обижают, звонят, интересуются иногда. А я вот, честно тебе скажу, понимаю, что не нужен я им, неинтересен.
У Солодовникова от столь длинного вступления в тему выступила на лбу испарина. Он поерзал на стуле под прямым Катькиным взглядом и распустил узел на галстуке: