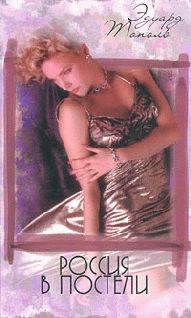Усталые, разбитые, на подкашивающихся ногах мы приходили потом к подъезду моего дома, и здесь, в подъезде, все начиналось сначала: мы начинали прощаться на лестнице нежными поцелуями, но уже через минуту возбуждались оба и теряли головы, и садились, а затем и ложились на ступеньки лестницы в подъезде, и он опять оголял мою грудь и набрасывался на нее с новой силой и темпераментом.
Вставшим под брюками членом он вжимал меня в ступеньки лестницы с такой силой, что у меня потом всю ночь болела спина, он елозил по мне, покрывал поцелуями грудь, шею, плечи и снова грудь, и я опять истекала влагой так, что трусы становились мокрыми, а он кончал, наконец, в свои трусы и брюки, и только после этого мы расставались.
Я уходила домой на полусогнутых от усталости ногах, с мокрыми трусами и спиной, исполосованной ступеньками лестницы.
На следующий вечер все начиналось сначала, и через неделю я уже готова была отдаться ему где угодно – на мосту, на лестничной площадке, лишь бы освободиться от накопившейся за все это время истомы.
Помню, днем я ходила как полувареная рыба, как сомнамбула, и только к вечеру как-то отряхивалась, принимала душ и шла к нему на свиданье, и мы оба с трудом дожидались темноты, чтобы начать целоваться и тискать друг друга на мосту.
И вдруг – какая удача! – бабушка на весь день уехала за город за грибами!
Через час после ее отъезда мой возлюбленный уже был у меня, и мы, даже не выпив чаю, упали целоваться на диван. Я знала, что сейчас произойдет, наконец-то все то, что и должно произойти, я уже даже перезрела для этого и потому разрешила ему все и ждала, что он сейчас снимет с меня не только платье, но и трусики.
И он тоже понимал это, и решительно и властно снял с меня платье и лифчик, но до трусиков дело еще не дошло – он бросился целовать мою грудь.
Стояло утро, комната была залита солнцем, и он первый раз целовал меня при свете. Мы лежали на диване, тиская друг друга, он распалялся все больше и больше, он уже сбросил с себя брюки, и теперь мы голые, в одних трусиках, вжимались друг в друга, и эти прикосновения голого тела распалили его еще больше, и я уже сама двумя указательными пальцами потянула с него трусы, и он тут же понял меня и резко сбросил сначала мои трусы, а потом свои и уперся мне в живот своим возбужденным членом, рыча от игры, целуя и обсасывая мою грудь.
Наступал главный, ответственный момент, я уже раздвинула ноги, и он лежал между ними, но все не мог оторваться от моей груди, кусая то левую, то правую, и вдруг, когда он подобрался как-то дугой и его член коснулся моих уже влажных от истомы губ влагалища – вдруг пронзительная боль дернула меня и будто выключила на миг сознание. Но боль не внизу живота, не от потери девственности.
Боль в груди.
Я схватилась рукой за левую грудь – кровь хлестала из нее, и откушенный сосок висел на кожице. В припадке страсти он откусил мне сосок левой груди.
Мы оба вскочили в растерянности, не зная что делать.
– Йод! – закричал он. – Давай йодом намажем!.
– Дурак, это же больно, – плакала я, держа рукой оторванный сосок и прижимая его к груди. Кровь заливала мне руку. – Одень мне халат!
Он набросил на меня халат, и я побежала к соседке, она работала медсестрой в больнице. Но тети Клавы не было дома, там была только ее дочь, 17-летняя Сонька, вялая, рыхлая и рыжая девчонка с веснушками на лице.
– Соня! – закричала я ей. – А где твоя мать?
– На работе, а что?
Я распахнула халат и увидела ужас у Сони на лице.
– У тебя сосок оторвался, – сказала она.
– «Оторвался!» Идиотка! Его откусили!
– Кто?
– Ну кто, кто! Володя! Что делать? Лучше скажи что делать?
– Володя? – изумилась Соня, она знала моего ухажера, и видела меня с ним. – А как он туда попал?
– Куда попал? – переспросила я.
– Ну вот сюда, – она показала на мою грудь.
– Как он туда попал?!
Эта идиотка в свои семнадцать лет еще, наверно, не целовалась ни разу!
– Что делать? Что делать? Соня! У меня кровь течет.
– Нужно в больницу. Побежали.
– А что я там скажу? Не могу же я сказать, что Вовка мне грудь откусил!
– Скажем, что моя собака тебе откусила! – сообразила Соня.
И мы побежали в соседнюю больницу.
Соня плела там про свою собаку, с которой я якобы игралась и которая якобы цапнула меня за грудь. Хирург сделал мне укол местного наркоза и пришил сосок на место, и потом мне перевязали всю грудь через левое плечо и шею, и мы пошли с Соней домой, но и по дороге она все спрашивала, недоумевая:
– А как он туда попал? Что ему там было надо?
– Отстань, Сонька, – отмахивалась я. – Ты все равно не поймешь!
– Но что ему там было нужно?
– Отстань, у меня голова кружится…
Проблема стать женщиной осталась нерешенной.
Глава V. ПРЕКРАСНЫЙ ХОЛОСТЯК.
Игорь Петрович Полесов был моим первым мужчиной, а я – его последней женщиной. Но, рассказывая об Игоре Петровиче, нужно начинать не с меня. Я была его ошибкой, а вот до меня…
Игорь Петрович жил замечательно. Высокий, стройный, 47 лет, с короткими седыми волосами и тонкими чертами лица, голубые глаза и серый, под седину костюм, должность руководителя группы в архитектурно-конструкторском институте, однокомнатная квартира и собственный автомобиль «Москвич», свободный доступ в Дом архитектора, ЦДРН и ресторан Дома художников – все это делало Игоря Петровича завидным московским женихом для 30-40-летних советских дам.
Но Игорь Петрович избегал супружества. То есть, он довольно легко и охотно шел на первые фазы сближения, однако голодным в любви и похотливым светским дамам из ЦДРИ и Дома архитектора предпочитал простых и упитанных парикмахерш, бухгалтерш и одиноких домовитых медсестер.
Здесь – он хорошо знал и проверил это на опыте – его ждал хороший домашний уход, чистая постель, молчаливое обожание, жаркая любовь по ночам и горячий завтрак в постели рано утром. И при этом никаких обязательств и никакой подконтрольности. Позавтракав и побрившись, Игорь Петрович заводил свой «Москвич» и уезжал на работу, а по вечерам играл в покер и бридж с приятелями – такими же, как он, полусветскими холостяками, наведывался в Дом архитектора побаловаться бильярдом и вкусным ужином в ресторане, а оттуда, как бы в порядке снисхождения, заезжал ночевать к своей очередной Маше, Наташе или Зине.
Жизнь была прекрасна и только порой омрачалась некоторыми осложнениями, когда Маша (или Наташа) после двух-трех месяцев связи начинала интересоваться «А где ты был вчера?», вздыхать по ночам, плакать, требуя утешения и каких-то определенных обещаний на вопрос: «Сколько это будет так продолжаться, ты меня мучаешь, я жду тебя каждый вечер?!» и т. д.
Тут Игорь Петрович понимал, что Маша уже строит далеко идущие планы, что нажим теперь будет усиливаться с каждым днем, и лучше кончать с этим раньше, а то дальше будет еще хуже. И потому без скандалов, без всякий объяснений Игорь Петрович, вздохнув про себя, рано утром поднимался из Машиной постели, забирал в ванной свою зубную щетку и безопасную бритву и неслышно исчезал с Машиного горизонта.
«Москвич» увозил его к новым приключениям и привычной легкой жизни столичного ловеласа, а робкие или настойчивые телефонные звонки этих Маш редко заставали его дома – очередная Зоя или Маша уже готова была принять его в свою одинокую женскую постель с горячим завтраком по утрам и жарким обожанием ночью. Зубная щетка и бритва помещались у нового зеркала в очередной ванной комнате, как знак постоянства.
При всей этой куролесной жизни была у Игоря Петровича одна привязанность – дочка Аленка. Аленка училась в десятом классе французской школы, жила с матерью, переводчицей из Совинторга, и по воскресеньям встречалась с отцом.
С ее матерью Игорь Петрович разошелся лет двенадцать назад и, хотя исправно платил алименты, несколько лет вообще не видел дочери, но затем Аленка выросла в высокую, красивую, стильную девчонку, и Игорю Петровичу стало приятно появляться с ней в Доме архитектора и ЦДРИ.
Мало кто знал, что это его дочь, большинство мужиков завистливо считало, что это – его новая юная любовница. Игорю Петровичу льстило, когда он ловил на себе и Аленке восхищенные взгляды потасканных светских львов-архитекторов и художников. Они с Аленкой посмеивались над этим, обедая в ресторане ВТО или ЦДРИ. Аленка доверительно рассказывала отцу всякие школьные истории, и они вместе строили планы на следующее воскресенье – поездку в Архангельское на машине, лыжную прогулку в парке или путешествие по Москве-реке в Ярославль на речном пароходе. Аленка была с ним наивна, доверчива, но он видел, что ей тоже нравится проводить время со стройным, светским, красивым отцом, ездить в машине, обедать в ЦДРИ и путешествовать.
Однажды, во время разрыва с очередной Машей-парикмахершей, Игорь Петрович на несколько дней (а точнее – ночей) оказался совершенно свободен, и в один из таких вечеров его приятель-график повез его играть в покер в компанию своих друзей.