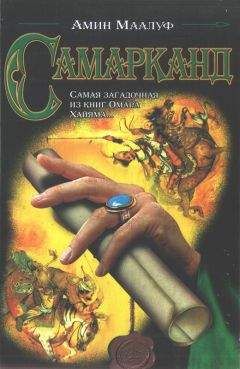— Как знать, не пересекутся ли однажды наши пути!
В течение двух последующих месяцев я не видел того, что бы напоминало мне дорогу в обычном смысле этого слова. Покинув Шах-Абдоль-Азим, мы двинулись на юго-запад, по направлению к бахтиарским землям. Обогнув соленое озеро Кум, следовали вдоль одноименной реки, не заходя в сам город. Мои спутники с ружьями на изготовку избегали населенных пунктов, и хотя дядя Ширин и старался поставить меня в известность относительно мест, которые мы проходили — «Мы в Амуке, в Верче, в Хомейне», — это было лишь условностью и означало, что мы где-то поблизости от них. Нам были видны лишь их очертания и башенки минаретов.
В горах Луристана за истоком реки Кум мои спутники несколько успокоились: мы ступили на их территорию. В мою честь был задан пир, мне дали выкурить трубку с опиумом, и я, ко всеобщему удовольствию, уснул. И лишь два дня спустя мы снова пустились в путь. Надо сказать, что преодолеть предстояло еще немало: Шустер, Ахваз, опасную переправу через болота, пролегающие до Бассоры — города оттоманской части Ирака на Шатт-эль-Араб.
Наконец-то Персия осталась позади, я был спасен! Еще месяц предстояло провести в море — совершить переход на паруснике от Фао до Бахрейна, обогнуть Пиратский мыс до Адена, подняться вверх по Красному морю и Суэцкому каналу до Александрии, а там уж самая малость — переплыть на старом турецком пароходе Средиземное море до берегов Константинополя.
Во все время этого бесконечного бегства, утомительного, но прошедшего без сучка без задоринки, у меня не было иного занятия, кроме чтения десяти рукописных страниц допроса Мирзы Резы. Это мне наверняка наскучило бы, будь у меня иные развлечения, однако вынужденное общение с приговоренным к смерти оказывало на меня завораживающее действие, еще и потому, что я легко мог представить себе его: удлиненные конечности, глаза страдальца, одеяние богомольца. Порой мне даже мерещился его измученный голос:
«— Что толкнуло тебя посягнуть на жизнь нашего любимого шаха?
— Те, у кого есть глаза, без труда заметят, что шах был убит на том самом месте, где было нанесено оскорбление сеиду Джамаледдину. Что сделал этот святой человек, потомок Пророка, чтобы его вот так выволакивать из святого места?
— Кто тебя надоумил убить шаха? Кто твои сообщники?
— Клянусь Богом, Всевышним, Всемогущим, Тем, кто создал сеида Джамаледдина и всех прочих смертных, что никто, помимо меня самого и его, не был в курсе моих намерений убрать шаха. Сеид в Константинополе, попробуйте-ка достаньте его!
— Какие указания давал тебе Джамаледдин?
— Когда я был в Константинополе, я поведал ему о муках, которые претерпел по воле сына шаха. Сеид приказал мне молчать: «Перестань стонать, словно на похоронах! Только и умеешь, что охать. Если сын шаха мучил тебя, убей его!»
— К чему же было убивать шаха, а не его сына, причинившего тебе страдания? Джамаледдин советовал тебе ото-мстить ему?
— Нет, я сам сказал себе: «Ежели я убью сына, шах, обладающий огромной мощью, погубит в ответ тысячи невиновных людей». И вместо того чтобы срубить одну ветку, я выкорчевал все дерево тирании, надеясь, что другое дерево сможет вырасти на его месте. Впрочем, и турецкий султан в частной беседе сказал сеиду Джамаледдину, что следовало бы избавиться от этого шаха, чтобы все мусульмане могли объединиться.
— Откуда тебе известно, что султан сказал в частной беседе Джамаледдину?
— Сам сеид мне о том поведал. Он мне доверяет, ничего от меня не таит. Когда я был в Константинополе, он обращался со мной, как с родным сыном.
— Если тебе так хорошо было там, к чему было возвращаться в Персию, где ты мог быть арестован и подвергнут пыткам?
— Я из числа тех, кто верит, что ни один лист не упадет с дерева, если этого не было записано испокон веков в Книге Судеб. Мне было суждено вернуться в Персию и стать орудием того, что произошло».
Если бы все эти люди, что шныряли по холму Илдиз вокруг дома Джамаледдина, написали на своих фесках «шпион султана», они бы не открыли ничего нового и самому наивному из посетителей Учителя. Но, возможно, это и было их целью: отбить охоту бывать у него. Как бы то ни было, но прежде кишащий словно муравейник посетителями, иностранными корреспондентами, заезжими знаменитостями дом в этот сентябрьский день был совершенно пуст. Кроме самого Учителя и его вышколенного слуги, в нем никого не было. Когда меня провели в его кабинет, Джамаледдин в задумчивости сидел в кресле, обитом плюшем и кретоном.
При виде меня его лицо, до того отстраненное, озарилось улыбкой. Он бросился мне навстречу, прижал к себе, извиняясь за зло, которое невольно причинил мне своим письмом и выражая радость по поводу моего избавления. Я в деталях описал ему свое бегство, роль принцессы, а затем уж вернулся к своему краткому пребыванию в Персии и встрече с Фазелем и с Мирзой Резой. Одно упоминание о последнем вывело Джамаледдина из себя.
— Мне только что передали, что его повесили в прошлом месяце. Бог ему судья! Разумеется, он знал, на что идет. Единственное, что поражает, — это срок его заключения. Более ста дней истекло с момента смерти шаха! Его, конечно же, пытали, чтобы выбить из него признания.
Джамаледдин говорил медленно. Он показался мне похудевшим, осунувшимся; его лицо, прежде безмятежное, подергивалось и стало неузнаваемым, хотя он по-прежнему источал магнетическую силу. Складывалось ощущение, что он страдает, особенно когда речь заходит о Мирзе Резе.
— Я все никак не могу поверить, что этот бедный малый, которого я определил здесь на лечение, чьи руки дрожали так, что, казалось, ему не поднять и чашки с чаем, сумел одним-единственным выстрелом из пистолета уложить шаха наповал. А не кажется ли вам, что кто-то воспользовался его безумием, чтобы приписать ему преступление, которого он не совершал?
Вместо ответа я протянул ему протокол дознания, переписанный принцессой. Нацепив очки в тонкой оправе на нос; он несколько раз пробежал его глазами — жадно, с затаенным страхом и даже, казалось, с какой-то внутренней радостью. Затем сложил листочки, сунул их в карман и принялся мерить комнату шагами. Прошло десять минут, он молчал, пока наконец из его уст не донеслось нечто сродни молитве.
— Мирза Реза, потерянное дитя Персии! Если б ты мог быть лишь сумасшедшим, лишь мудрецом! Если б ты мог ограничиться одним предать меня или хранить мне верность! Если б ты мог внушать мне лишь нежность или отвращение! Как тебя любить, как тебя ненавидеть? Да и Богу как с тобой поступить? Отправить в рай к жертвам или в ад к палачам?
После этого он сел и измученно затих, закрыв лицо руками. Я тоже молчал, стараясь задержать дыхание. Потом он выпрямился. Его голос показался мне окрепшим, а сам он словно посветлевшим.
— Слова, которые я прочел, несомненно принадлежат Мирзе Резе. До этого я все еще сомневался. Теперь уверен: это он убил. Возможно, он поступил так, чтобы отомстить за меня. Возможно, считал, что выполняет мою волю. Но я никогда не приказывал ему убивать. Когда он явился в Константинополь и рассказал, как мучил его сын шаха и его окружение, слезы текли у него по лицу. Желая встряхнуть его, я сказал: «Хватит жаловаться! Можно подумать, ты только того и ждешь, чтобы тебя пожалели. Глядишь, и увечье себе нанесешь, только чтобы тебе посочувствовали!» И рассказал ему древнюю легенду: когда армии Дария встретились с армией Александра Великого[61], советники последнего якобы донесли ему, что войска Дария превосходят их численно. Александр пожал плечами и уверенно заявил: «Мои солдаты воюют, чтобы побеждать, солдаты Дария воюют, чтобы умереть!» Джамаледдин сделал паузу, словно для того, чтобы порыться в своей памяти, и продолжал: — Тогда я сказал Мирзе Резе: «Если тебя преследует сын шаха, убей его вместо того, чтобы убивать себя!» Неужто это можно рассматривать как призыв к убийству? И неужто вы, знавшие Мирзу Резу, думаете, что я мог доверить столь важное дело не вполне нормальному человеку, которого множество людей видело в моем доме?
Желая быть искренним, я отвечал:
— Вы не виноваты в преступлении, которое вам приписывают, однако нельзя отрицать вашу нравственную ответственность.
Моя честность тронула его.
— Допустим. Я ведь каждый день желал смерти шаху. Но защищаться мне ни к чему, я уже приговорен.
Он вынул из шкатулки лист бумаги, испещренный аккуратным почерком.
— Сегодня утром я составил завещание.
Он протянул мне его, и я с волнением прочел:
«Я не страдаю оттого, что меня охраняют, как пленника, и не боюсь смерти. Единственное, что приводит меня в отчаяние, — то, что я так и не дождался всходов от тех семян, что бросил в почву. Тирания по-прежнему давит народы Востока, а мракобесие душит их свободный глас. Возможно, мне повезло бы больше, посади я свои семена в плодородную народную ниву вместо бесплодных угодий королевских дворов. Ты, народ Персии, на который я возложил свои самые большие надежды, не думай, что можешь обрести свободу, убрав одного человека. Тебе должно осмелиться стряхнуть с себя гнет вековых традиций».