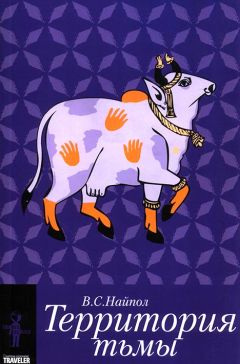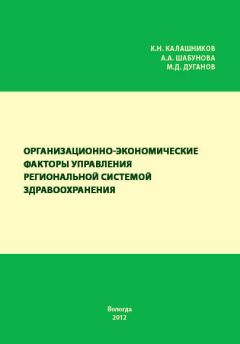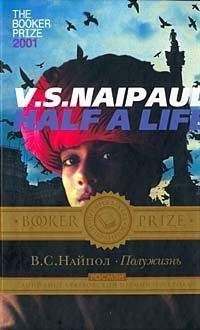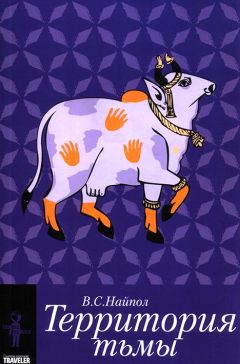Он лежал твердыми корками в укромных оврагах и каньонах; он образовывал прочные мосты над ручьями, летом становящимися более вялыми, — мосты, которые на поверхности оставались такими же бурыми, зернистыми, как и окружающая их земля, а вот на пару метров ниже, прямо над уровнем воды, зияли промоинами и низкими, иссиня-ледяными полостями.
Как же обнаружили эту пещеру? Как сложился ее культ? Здешняя земля была голой, она не дарила людям ни топлива, ни пищи. Лето в Гималаях короткое, погода коварная. Любая разведка — как и любое паломничество даже сегодня, — должна была производиться очень быстро.
И как получилось, что весть об этой мистерии, неотделимой от снега и льда, блещущей лишь на краткий миг раз — в год, распространилась по всем уголкам древней Индии? Гималаи, «лежбище зимы», — какое отношение могли они иметь к раскаленным равнинам Северной Индии или к пальмовым рощам на пляжах Юга? Однако уже тогда были составлены карты этих гор, раскрыты их тайны. За пещерой Амарнатх находился горный хребет Кайлас, еще дальше — озеро Манасаровар.[48] С каждым участком пути к пещере Амарнатх связывалась какая-нибудь легенда. Вон те скалы — останки поверженных демонов; вон из того озера владыка Вишну поднялся на спине тысячеглавой змеи; вон на той равнине владыка Шива исполнил однажды космический танец разрушения, и из его растрепавшихся кудрей произошли вот эти пять ручьев: чудеса, представавшие человеческим взорам лишь на несколько месяцев в году, прежде чем вновь исчезнуть под покровом другой тайны — снежной. И в самом деле, все эти горы, озера и ручьи как нельзя лучше подходили для легенд. Даже находясь совсем рядом, они казались реальными лишь отчасти. Они бы никогда не могли сделаться до конца знакомыми; то, что можно было увидеть глазами, не было их правдой; завеса над ними приоткрывалась лишь временно. Они могли подвергаться ничтожному воздействию со стороны человека — например, когда камень падал в ручей, или над тропой поднималась пыль, оседая на снежную кайму, — но как только паломники торопливо возвращались, эти красоты оставались позади, сразу же становясь далекими, как и прежде. Этот путь проделывали миллионы людей, но голая земля хранит мало следов их восхождения. Каждый год выпадают снега и стирают самую память об их следах, и каждый год внутри пещеры образуется ледяной лингам. Это таинство никогда не теряет новизны.
А в пещере — божество: увесистый ледяной фаллос. Насколько высоко воспаряли умозрения индусов, настолько элементарными оставались их ритуалы. Между представлением о материальном мире как об иллюзии и поклонением фаллосу не существует никакой связи: они произошли из совершенно разных сфер сознания. Но индуизм ничего не отбрасывает — и, возможно, в этом он прав. Фаллос сохранился неузнанным, признаваемым только как Шива, как непрерывность жизни: а поэтому он вдвойне стал символом Индии. Как часто, путешествуя по заброшенным индийским деревням, я ощущал, что мощь таится здесь единственно в самой порождающей силе, уже отделившейся от своих орудий и жертв — людей. Для тех же, кого она разрушала и уродовала, ее символ оставался тем же, что и всегда, — символом радости. Паломничество было уместно в любом случае.
* * *
— Вам нужен повар, — говорил Азиз. — Вам нужен один человек помогать мне. Вам нужен кули. Вам нужен уборщик. Вам нужно семи пони.
Каждого пони сопровождал его владелец. Значит, всего у Азиза нас стало бы уже четырнадцать, не считая животных.
Я приступил к сокращению.
— Повара не нужно.
— Он не только поваром, саиб. Он проводником.
— Там же соберется двадцать тысяч паломников! Зачем нам проводник?
Этот повар был протеже Азиза. Это был толстяк и весельчак, и я бы охотно взял его. Но через Азиза выяснилось, что он страдает тем же недугом, что и Азиз: ему тоже не рекомендуется ходить пешком, так что ему тоже потребуется пони. Потом он сообщил с кухни — снова через Азиза, — что ему нужна новая пара обуви для поездки. Такой наглости я не выдержал. Кроме того, я решил, что обойдусь и без кули; а уборщика заменит простая лопатка.
Азиз, побежденный, страдал. Он-то знал, что такое выступать с помпой, и наверняка уже мысленно нарисовал себе экспедицию в старинном духе. Себя он, должно быть, воображал в куртке, штанах и меховой шапке, едущим рысью на пони и раздающим всем указания. А теперь оказалось, что ему предстоит только пять дней труда. Но он никогда раньше не бывал в Амарнатхе и был взволнован. Он сообщил нам, что первыми в пещере побывали мусульмане и что когда-то сама пещера, с этим лингамом и прочим, была мусульманским «храмом».
Он известил мистера Батта. Мистер Батт призвал жившего на озере писца, знавшего английский, и несколько дней спустя, когда я лежал в постели с очередной простудой, прислал приблизительный счет:
От Шринагара до Палгайма автобусным Сообщением 30.0.0 3 пойни ездовые 150.0.0 2 ройни грузовые 100.0.0 Тэнт и кухня 25.0.0 Стол и постель 15.0.0 один кули
30.0.0 350.0.0 Уборщик 20.0.0 Лишний грус и кули Бес Грус
20.0.0 390.0.0 С 11 августа до 17 августа 7 дней деревенская Еда
61.0.0 551.0.0 рупия Если вы едете автобусом до Имри Натх тогда еще 100 рупия
Это был исключительный документ: написанный на малознакомом языке, незнакомым алфавитом, и большая часть этих приблизительных расчетов понятна. Слишком понятна: с меня хотели содрать слишком дорого. Я испытал горькое разочарование. Я знал этих людей уже четыре месяца; я явно выражал им свою симпатию; я делал для отеля все, что мог; я устроил им пирушку. Наверное, слишком глубоким оказалось мое разочарование, а может быть, сказались два дня, проведенные в постели. Я вскочил на ноги, оттолкнул Азиза, ринулся к окну, распахнул его настежь и закричал мистеру Батту странным голосом, с искренне-неискренними интонациями, — наверное, оттого, что, даже срываясь на крик, я должен был произносить слова очень внятно, будто разговаривая с ребенком, и выбирать те слова, которые он поймет:
— Это нехорошо, мистер Батт! Батт Саиб, это нечестно. Мистер Батт, вы знаете, что вы сейчас сделали? Вы обидели меня!
Он стоял в саду вместе с несколькими лодочниками. Он поднял голову с удивленным, непонимающим видом. А потом его лицо, все еще повернутое ко мне, перестало вообще что-либо выражать. Он не сказал ни слова.
В тишине, которая воцарилась вслед за моим выкриком, я почувствовал себя глупо и очень неловко. Я закрыл окно и тихо забрался обратно в кровать. Говорят, что Индия раскрывают в людях такие черты, о которых они раньше не подозревали. Неужели это был я? Неужели так на меня подействовала Индия?
Как бы то ни было, мое поведение вызвало в отеле переполох. Когда, дав мне время несколько остыть, они собрались вокруг моей постели, чтобы обсудить денежные подсчеты, у всех был такой озабоченный вид, словно моя болезнь оказалась не просто простудой. В их тревоге ощущался и упрек: получилось, что я, живя рядом с ними столько недель, утаил от них свою вспыльчивость, а тем самым подтолкнул их к лукавству, за которое, по справедливости, их нельзя было винить.
В итоге из счета удалось убрать немало рупий, и мы снова сделались друзьями. Мистер Батт выглядел довольным; он доехал с нами до Пахальгама, чтобы проводить нас. Азиз был счастлив. На нем была его собственная меховая шапка, полосатый голубой костюм Али Мохаммеда, сандалии (мистер Батт отказался одолжить ему еще раз свои башмаки) и пара моих носков. У него не было той свиты, о которой он мечтал, но все равно ни один другой участник паломничества, похоже, не путешествовал подобным образом. У нас в итоге все-таки имелся штат слуг, имелась у нас и вторая палатка — для слуг. И когда на закате мы прибыли в людный лагерь среди дымных лесов Чанданвари, Азиз сумел не только создать своими проворными и умелыми действиями подобие роскоши на фоне естественных ограничений, но и достойно выгородил нам место — суетясь, раздавая жесткие приказы погонщику пони и его помощнику и не забывая оказывать нам преувеличенно почтительное внимание. Лагерь представлял собой беспорядочное скопление палаток, растяжек, каменных очагов и паломников, испражнявшихся под каждым кустом. Лес был уже загажен незакопанными экскрементами; каждый доступный камень у реки Лидер, возле которой располагался лагерь, был увенчан какашечной завитушкой или кренделем. Но Азиз старался вовсю, чтобы мы чувствовали себя огражденными от всего этого; он устроил настоящий спектакль. В этом проявлялось его ремесло, его гордость. И как в то утро, когда мы выезжали из отеля в Гульмарг, он не мог скрыть радости и каждому встречному на озере сообщал, что едет в Гульмарг, так и сейчас, поливая мне теплой водой руки, он сказал: «Все меня спрашивать: „Кто твой саиб?“» Это была дань уважения скорее ему, нежели мне.