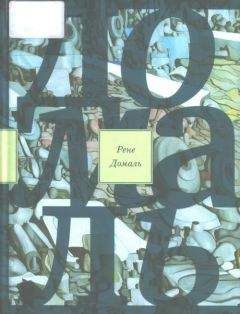Несомненно одно: стоило нам только задать себе этот вопрос, и мы, и вы и я, слегка поддались. По мере того как наплывают воспоминания и страхи, спины сгибаются, головы опускаются, глаза закрываются — неужели нас охватывает тайное волнение? — мы тихонько зачехляем свои критичные умы, приглушаем голос своего рассудка и — еще немного — уже готовы выключить его совсем. Вот тогда и является фантомное.
Вот тогда, в более широком смысле, и рождается оккультное, таинственное. Эмоциональный элемент таинственного — страх. Интеллектуальный элемент — любопытство: желание видеть, не воспринимая, желание, чтобы нечто представлялось внутри нас, но без нашего усилия это себе представить. Эти два элемента объединяет самолюбие. Самые здравомыслящие и наиболее скептически настроенные люди, едва позволив себе заговорить о призраках, внезапно теряют рассудительность. Затем — это видно даже по их манере держаться, слышно по их голосу — спускаются в сумрачные зоны и зыбкими тропами боязни и любопытства пытаются пробраться в некий запретный мир. Подобный уход человека вниз образует наверху пустоту, отсутствие; человек покидает свой верхний пост наблюдения. Однако именно в этой верхней камере вырабатываются, проецируются и подтверждаются образы мира, через окна наших чувств. Отныне, после того как верхний отсек опустел, эта пустота будет проецироваться на мировоззрение, пробьет себе место среди остатков разумного видения; это отсутствие, окруженное присутствием, и есть привидение, собственно говоря, пришелец оттуда, поскольку наша боязнь и наше любопытство обращены к мертвым. Это отсутствие кажется зримым, как кажется зримым воздух, принимающий форму пузырей в жидкости; и оно имеет свои законы. Так, когда мой разум отрекается, во мне просыпается страх, и, выискивая извинение извне, он находит его в этом отсутствии — ибо то, что существует отчетливо, не страшит. Значит, призрак будет страшным, значит, мне будет страшно, значит, призрак будет страшным: вот я и попался; призрак и я, мы порождаем друг друга, он преследует меня, как тень преследует свет. И если вы видите мой ужас, если видите, что вижу привидение я, то, при виде меня, увидите привидение и вы. Если я внимательно прослежу взглядом за какой-то движущейся точкой в воздухе, то вы увидите, что я вижу какую-то незаметную мушку, но если бы моя пантомима была удачнее, то это невидимое насекомое заметили бы и вы сами. Но какая мимика по убедительности может сравниться с грубой искренностью страха?
Включим наш разум. Вы скажете, что я всего лишь развил банальную мысль о том, что призраки — коллективные галлюцинации. А я без ложной скромности скажу, что сделал нечто большее. Галлюцинация — это слово, которое ничего не объясняет; это слово начисто отрицает реальность призраков. Патафизический же метод позволяет различать отсутствия по количеству, качеству и степени, подобно тому, как алгебра позволяет производить операции с отрицательными, мало того — иррациональными и даже пока еще невообразимыми числами.
Здесь я хотел дать лишь общее представление о методе. Поэтому избавлю вас от технической аргументации и перейду к некоторьгм фактам из области призраков, которые патафизика смогла установить.
Сначала — как перемещаются призраки? Этот вопрос совсем недавно мне задали «диалектики». Ответ напрашивается сам собой: призраки могут появляться там, где им уготовано место, где они находят наименьшее сопротивление, наименьшее присутствие. Как вода затекает в углубления, так и привидения заполняют отсутствия, — отсутствия в том смысле, в котором говорят о ком-то, что у него бывают провалы. В детстве вас наверняка терзала проблема с резиновым мячом, который, немного сдуваясь, давал на поверхности вмятину. Это углубление — едва вам удавалось, терпеливо пережимая пальцами, удалить его из одного места — тут же появлялось в другом. Таким же образом путешествует и призрак; отверженный здесь, является там. Недостаточно отрицать; чтобы уничтожить, следует выдавить, а для этого заполнить все пространство. А как наполнить резиновый мяч? Нагнетая воздух внутрь, накачивая изнутри, восстанавливая нормальное давление. Оставайтесь под давлением, и призраки исчезнут; ведь говорят «болезнь проходит», когда хотят сказать, что здоровье возвращается.
Далее, несмотря на невероятное многообразие видов, которые приписывают призракам, у них — по свидетельству тех, кто их видел, — есть одна общая черта: глупость. Иногда они могут даже обладать некоторыми душевными качествами. Но в умственном отношении все они страдают маразмом, манией преследования и врожденным кретинизмом. Интеллектуально ограниченные, неспособные к обобщениям, одержимые, они несут бесконечный вздор, одни — с мрачной заунывностью, другие — с неуемным балагурством. И это естественно, если учесть характерную особенность их тиражирования, а именно отказ от любой критической мысли. Когда заходит солнце, приходит ночь, — подсказывает нам здравый смысл.
Следующий вопрос касается мест, обживаемых призраками. Почему они являются преимущественно в древних феодальных замках, на кладбищах, в домах, где совершались преступления? Здесь следует рассмотреть две причины. Во-первых, всякое воспоминание о смерти, побуждая человека представить себе свое собственное отсутствие, приводит его к абсурдной бессмысленности. Если разум уступает этой абсурдности, он проваливается в животный страх и тем самым оставляет дыру, готовую форму для отливки, место для сотворения призрака. Во-вторых, привидения не привязываются к местам, где люди работают. В человеке, занятом какой-либо деятельностью — что бы он ни производил, — нет места для привидений. Напротив, в жилищах тех, кто забыл о своей изначальной функции беречь землю и коснеет в праздности, живет в отсутствии жизни, находится место для привидений. Пережиток привлекает пережиток, суеверие влечет суеверие.
Такой абсурдностью и является призрак: живой мертвец. В более широком смысле призраком мы порой именуем другую абсурдность: мертвого жильца. Но мертвых жильцов мы все же предпочитаем называть вампирами: они влачат по миру свои тела из весомой и измеримой плоти с жадной пустотой внутри, цепляют людей желчными или медовыми речами, ловят на самых низких, но не самых слабых чувствах и инстинктах, высасывают и опустошают.
Патафизика не довольствуется тем, что объясняет факты. Она одновременно позволяет воздействовать на явления. Изложенные принципы фантомической науки и приведенные примеры вы сумеете — вот увидите — эффективно использовать в борьбе с призраками и вампирами.
— В борьбе? — спросите вы. — Значит, вы их ненавидите?
— Ненавидеть то, чего нет? Да, если угодно. Если это значит «любить то, что есть». Ведь можно выразиться и так.
1941Дорогой Л. Г. Гро,
Когда Вы попросили у меня статью о «поэзии и мысли», я сначала подумал: что ему нужно? что это значит? что он понимает под этими словами? в какое коллективное творчество он хочет включить мои размышления? Я уже собирался написать Вам, чтобы задать все эти вопросы, но мало-помалу предложенные Вами и соединенные вместе слова «поэзия» и «мысль» начали порождать в моей голове вербальные вереницы, которые, как мне показалось, были не лишены смысла. Так, моим вторым желанием было написать Вам: «Подождите немного, созревает[8]». Но — и это стало третьим желанием — Возмутитель спокойствия, который в глубине души на мне паразитирует (если, конечно, не наоборот), подступил к горлу и ощетинился, как морской еж. И я закричал: нет! нет! меня не заставят вновь говорить о поэзии! надоело говорить, лишь бы ничего не делать; сделай сначала что-нибудь поэтическое, а потом уже говори, если, конечно, останется желание, а лучше всего помолчи, этим займутся другие, а ты делай и молчи.
Итак, сказал я себе, вместо мыслей о поэзии лучше отправить ему поэму о мысли. Да, но ведь это чертовски сложно. При упорной работе у меня что-нибудь может и получиться через годик-другой. А поскольку жить без компромиссов почти не удается, то сейчас, пока поэмы еще нет, отправлю-ка ему маленькую апологию. Вот она, апология.
СЛОВО И МУХА[9]
У одного чародея была привычка развлекать компанию следующим фокусом. Хорошо проветрив комнату и закрыв окна, он склонялся над большим столом из красного дерева и отчетливо произносил слово «муха». И тут же посреди стола появлялась муха, она семенила по лаковой поверхности, ощупывала ее своим мягким хоботком и потирала передние лапки, как это делает самая обычная муха. Чародей вновь склонялся над столом и произносил еще раз слово «муха». Насекомое падало на спинку, словно сраженное молнией. Рассматривая ее труп в лупу, можно было увидеть лишь пустой и сухой остов, без внутренностей, без жидкости, без света в фасеточных глазах. Тогда чародей, скромно улыбаясь, оглядывал приглашенных и принимал комплименты, которые, как и полагалось, ему всякий раз отпускали.