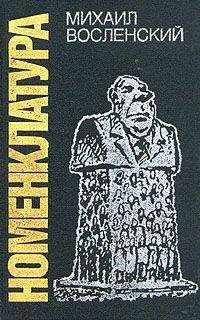— Значит, вас в молодости отвергали женщины?
— Ты невнимательно меня слушал… Не женщины… Женщина!
— А как будет на санскрите женщина? — спросил Костя.
Старик поднял с песка прутик и нарисовал сложный знак-строку.
— Но знание древних языков и чужая мудрость счастья не приносят, — сказал старик. — Даже покоя не приносят.
— Вы говорите загадками.
— А что Аркадий Аркадьевич? — неожиданно спросил старик. — Загорать уехал?
— Вы его знаете?
Старик засмеялся.
— Лина — моя бывшая жена, — сказал он. — И моя бывшая студентка. Я женился на ней, когда мне было семьдесят… Самый жениховский возраст! Аркадий Аркадьевич тоже был когда-то моим студентом. Даже моим учеником… Лина ушла от меня к нему, а теперь вот хочет вернуться… Но я её не беру! И мы играем в теннис… — Старик улыбнулся. — Счастливый человек подобен пустому сосуду. Ему нечего сказать людям, кроме того, что он счастлив. Это пословица. И утешение. Будешь ещё играть?
Озадаченный Костя проиграл старику два раза подряд и решил, что теннис не для него. «Моё место — библиотека!» — решил Костя и стал одеваться.
— Ты молодец! — сказал старик. — Не спрашиваешь, где я преподаю, и не просишь, чтобы я тебе помог.
— Зачем мне помогать? Я сам, наверное, поступлю.
— А сейчас куда пойдёшь?
— Звонить ей…
— Ступай…
— Мне почему-то кажется, что это неправильная пословица: счастливый человек подобен пустому сосуду… Наоборот!
— Возможно, — согласился старик. — Но всё же, на мой взгляд, основной двигатель литературы, искусства, любого прогресса — несчастные люди! Разве от хорошей жизни, от полноты счастья, от любви едут, скажем, на Северный полюс? Знаешь, какой в Арктике ветер? Как руки коченеют… Как собаки на снег умирать ложатся? Чтобы примус разжечь, надо руки отогреть… А пальцы не шевелятся… А знаешь, как руки отогреваются? Надо собаке брюхо вспороть и сунуть туда руки… Подходишь к ней с ножом, а она на тебя смотрит… Она же твои нарты тащила… А потом собаку эту и съедаешь… Давай ещё сыграем?
— Вы были на Северном полюсе?
— Я был недалеко от полюса.
— Я вам завидую. Только…
— Что «только»?
— Вы любите Лину?
— Иди звонить, — улыбнулся старик.
Костя положил ракетку в чехол и пошёл в сторону дома. «Интересно, — подумал Костя, — доживу я до семидесяти шести лет?»
Когда Костя пришёл домой, ему позвонил Гектор Садофьев.
— Привет, дачник! — сказал Гектор.
— Я не дачник, — я мещанин, — ответил Костя.
— Пусть так, — не стал спорить Гектор. — Только я собрался ехать к тебе на дачу.
— Я очень рад, но у меня нет дачи. И ты вроде это знаешь…
— Да? А я сказал маме, что есть.
— А зачем ты ей это сказал?
— Потому что я на десять дней испаряюсь из Ленинграда!
— Куда?
— Тебе скажу: в Крым!
— По морю соскучился?
— Страстно!
— Значит, у меня на даче есть где купаться?
— У тебя замечательная дача, Костик!
— Ты никуда не поступишь, дурак!
— Мы будем дружно заниматься, когда я вернусь целых двадцать дней! Неужели этого мало?
— Давай встретимся?
— Через полчаса около Думы. Только… Вот… Это, значит… Да…
— Что ты хочешь сказать? — Деньги у тебя есть?
— Да. Сорок семь рублей.
— Принеси их мне, ладно? Я потом отдам.
— С первой зарплаты?
— С первой стипендии…
— Зачем же ты всё-таки едешь в Крым?
— Пока доберёшься, догадаешься…
— Я уже догадался… — Костя повесил трубку.
Единственный друг — Гектор Садофьев собрался в Крым, у Инны Леннер дома трубку не поднимали. Из остальных одноклассников за это время звонил только Лёша Казаков.
Костя задумался, как легко они расстались, как вдруг перестало существовать то, что называлось некогда десятым «Б». Костя шёл по светлому Невскому, и мысли в голове путались. Старик, Лина, Аркадий Аркадьевич, Гектор, Инна… Один! Костя остался совершенно один! Костя скучал по школе! Костя думал, что, если он поступит на восточный факультет, появится новый коллектив, новые друзья, а старых школьных он будет постепенно забывать, забывать… Косте это казалось ужасным. Мысли его обрывались на этом «поступлю». О том, что будет, если он не поступит, думать не хотелось. «Должен! Должен! Должен поступить!» — топал Костя по асфальту. «Но каков Гектор! — удивлялся Костя. — Решил благородно безумствовать накануне вступительных экзаменов… что же с ним произошло? Ведь он всегда был таким нерешительным. Всегда во всём сомневался, сто раз на дню менял свои решения. Наверное, это всё несерьёзно, — решил Костя. — Я приду к Думе, а он уже передумал…»
Каждый вечер Костя набирал номер Инны и, когда она отвечала, вешал трубку. «Она дома, — радовался Костя. — Как хорошо, что она дома!»
Образовавшийся вакуум общения отчасти восполняли беседы с матерью за ужином, когда Костя, уже не стесняясь, брал из пачки «Беломор» и курил, размышляя, как бы ещё раз наведаться в комнату старухи, взять какую-нибудь интересную книгу. Вместо изъятых книг Костя ставил в старухин шкаф тома Большой Советской Энциклопедии, и старуха ничего не замечала.
— Как у тебя дела? — иногда спрашивала мать и внимательно смотрела на Костю сквозь очки. Глаза у матери в очках были необыкновенно большими и добрыми.
— Занимаюсь, — отвечал Костя. — Только мне надоело сто раз читать одно и то же. Если на экзаменах будут спрашивать по программе, я всё сдам на «отлично»…
— Ты так уверен?
— И потом мне надоело думать: поступлю, не поступлю, что будет, если не поступлю? Я к первому августа, наверное, психом стану.
— Всё-таки странно, что ты так упорно хочешь поступать на восточный, — говорила мать. Она сидела на кухне, маленькая, сухонькая, с морщинистым лицом, в волосах буйно светилась седина.
— Не странно это, не странно, — отвечал Костя. — Понимаешь, у меня нет, например, никакого желания изучать литературу как предмет. Книгу, я имею в виду художественную, можно прочесть, но на кой чёрт её изучать?
— То же самое ты скоро станешь болтать и про свой Восток, — говорила мать. — Вечно у тебя какие-то дурацкие теории…
— Это не теории, — возражал Костя. — Что значит быть литературоведом? Знать о книжке больше, чем написано в книжке? Зачем копаться в чужом воображении? Зачем тупо размышлять над каждой строчкой? Это, в конце концов, неэтично по отношению к писателю! Литературоведение — это когда ищешь в чужих книжках подтверждение собственным мыслям! А изучая какую-нибудь древнюю культуру, её язык, я буду объективен. Пусть уж лучше я буду разбираться в каменных топорах, но не в книгах!
— Странный подход, — пожимала плечами мать. — Как можно сравнивать книги и каменные топоры?
— А вот и можно, — смеялся Костя. — И человек, который изучает каменные топоры, больше учёный, нежели человек, который изучает книги. Потому что человек, изучающий каменные топоры, кое-что знает о книгах, а человек, изучающий книги, ни черта не знает о каменных топорах…
— А из книг? — улыбнулась мать. — Из книг разве нельзя узнать о каменных топорах?
— Я не имею в виду научную литературу, — отвечал Костя. — Я имею в виду художественную…
— В общем, поняла я твою теорию, — вздыхала мать. — Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе… Так?
— Лучше быть самим собой, — ответил Костя. — И зависеть только от бесстрастных исторических фактов. От костей, найденных у первобытного костра.
— В таком случае ты заблуждаешься насчёт истории, — сказала мать.
— Поживём — увидим, — ответил Костя.
Рейс на Симферополь задерживали три раза. Гектор торчал в аэропорту с шести утра, так как прочитал на обратной стороне чудом купленного накануне билета, что регистрацию необходимо пройти за час до вылета. Он сидел в мягком аэропортовском кресле и слушал, как объявляют посадки на Красноярск, Благовещенск (сразу вспоминался Костя со своей несуществующей дачей), Магадан, Петропавловск-Камчатский. «Наверное, — думал Гектор, — они считают тех, кто летит в Симферополь, бездельниками, любителями красивой жизни, поэтому хотят сначала отправить тружеников в далёкие северные районы…» Рядом расположился матрос. Он покрутил ручку транзисторного приёмника. Запела трагическая певица Далида. Гектор Далиду любил. «Каждое чувство, — считал семнадцатилетний Гектор Садофьев, — однозначным быть не может… Не имеет права быть однозначным! Всегда есть оборотная сторона медали! И истинное искусство, — делал вывод Гектор Садофьев, — должно ходить по круглому ребру этой медали, туда-сюда заглядывая…»
«Ничто не вечно…» — пела на французском Далида. «Ничто не вечно…» Матрос-тихоокеанец задумчиво её слушал. Музыкальная муха медленно ползла по сверкающей шпаге-антенне.