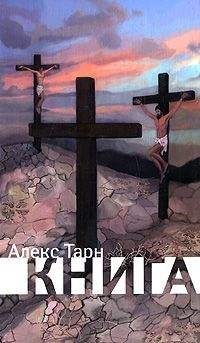— Но это невозможно, бар-Раббан. У Идола уже есть имя. Мы назовем его Ешу.
— Ешуа? — переспросил я. — Почему Ешуа? Чем плох Адам?
На мое плечо легла рука Йоханана. Он и на этот раз не отпустил меня слишком далеко.
— Идол не заслуживает человеческого имени, — Йоханан развернул меня к себе, заглянул в лицо, и я сразу растерялся.
Йоханановы глаза всегда действовали безотказно. Я еще успел пролепетать, что Ешуа, мол, тоже человеческое имя, но Йоханан улыбнулся и поправил:
— Не Ешуа, а Ешу. Это очень важно. Он будет зваться у нас именно «Ешу», три буквы, сокращение от «емах шмо везихро».
— «Да сотрется имя его и память о нем»… — повторил я вслед за ним, начиная понимать.
Они действительно продумали все, каждую деталь. Даже в самом имени идола было зашифровано прямое указание на его неизбежное будущее. Куда уж тут мне с моим глупым «Адамом»… Йоханан покрепче сжал мое плечо. Он читал меня, как открытую книгу.
— Конечно, это указание, — проговорил он, подтверждая мою безмолвную догадку. — На тот случай, если потом, когда все откроется, кому-то еще понадобятся доказательства. Мы расставили эти знаки повсюду, так, что их трудно будет не заметить. А еще мы подробно опишем всю эту историю в отдельной книге. Мы выбьем ее на меди, чтобы пережила тысячелетия и спрячем ее особенно тщательно. Мы назовем ее «Книга Ковчега» и объясним там все наши решения и поступки. И тогда уцелевшие праведники прославят наши имена. Наши — это и твое тоже, бар-Раббан.
— Бар-Раббан? — мрачно переспросил я. — Невелика награда… Я ненавижу это имя, а ты предлагаешь мне увековечить его…
— Знаешь что? — вдруг воскликнул Йоханан. — Вторую часть имени можно оставить, если уж это так для тебя важно. Пусть будет «бен-Адам». В конце концов, кто создает идолов, как не люди? Значит, идолы — людские детища, сыны человеческие. Решено! — он торжественно воздел руку и возгласил. — И наречется он Ешу бен-Адам, Ешу, сын человеческий! Как тебе?
Я благодарно кивнул. Мечты редко сбываются в полном объеме даже у самых отъявленных счастливчиков. А уж мне грех было жаловаться. Видели бы вы мой въезд в Ерушалаим! Как вы, наверное, помните, я мечтал когда-то о славе полководца, о разукрашенной колеснице во главе победоносного войска… Подумаешь, полководец! В первый день второй недели месяца Нисан в ворота Ерушалаима въезжал сам Машиах! И это был я! Я!
Шимон и Йоханан позаботились о том, чтобы связь Ешу с Книгой была ясна с самого начала: я восседал на прекрасной ослице, разукрашенной цветами, — в точности, как это предсказывается у пророка Закарии. Отовсюду слышались мольбы о спасении: «Ошиа на!» «Ошиа на!» — опять же, в точности, как поется в известном псалме. Люди устилали мне дорогу пальмовыми ветвями и собственными одеждами. Гм… люди?.. — Конечно, все это делали наши кумраниты. Репетиции не прошли даром.
Просто удивительно, какого эффекта можно достичь слаженными действиями всего лишь ста пятидесяти человек! Даже у меня временами создавалось впечатление, что мое имя скандирует вся сбежавшаяся на шум многотысячная толпа. Впрочем, знаете, возможно, так оно и было. Нет ничего заразительней массового порыва — любого, от безудержного бессмысленного прославления до столь же безудержной и столь же бессмысленной ненависти. В эту неделю мне предстояло стать свидетелем… а точнее, объектом и того, и другого.
И все же — свидетелем или объектом? Видите ли, мои сомнения совсем не случайны: я никак не мог избавиться от чувства, что все это происходит не со мной. Не мне кричат «Ошиа на!», не меня именуют «царем Еуды» и «Машиахом, Давидовым сыном», не моя рука болит от постоянного приветственного жеста, не мои губы застыли в кроткой заученной улыбке… Разве это меня зовут Ешу, сын человеческий? Я ведь бар-Раббан, полнейшее ничтожество, никчемный сын выдающегося отца… И тем не менее, тем не менее… именно мою задницу натирала костлявая ослиная спина, именно ко мне были обращены исступленные лица, именно задуманое мною прозвище слышалось из толпы:
— Кто это там едет, прекрасный, как Машиах?
— Это Ешу бен-Адам, наш царь и спаситель! Бен-Адам! Бен-Адам! Сын человеческий!
Ах, если бы отец видел мое торжество!..
Между тем, запланированное представление продолжалось. Неимоверный шум, произведенный нами на въезде, неизбежно должен был привлечь внимание властей, но сам по себе еще не мог запустить в действие главный маховик — тот самый, который должен был вознести меня на крест, к высотам грядущей славы. И храмовые власти, и ромайские чиновники всегда воспринимали истерику ерушалаимской толпы с известной долей дополнительного хладнокровия: этот город видел на своем веку слишком много пророков и проповедников, чтобы реагировать на каждого дурачка, въезжающего в ворота на осле — пусть даже с помпой, и с воплями насчет прихода Машиаха. Хотя назойливое именование меня «царем Еуды» не могло не царапнуть ревнивое к таким вещам ромайское ухо.
Но Шимон и Йоханан, конечно же, не были настолько наивны, чтобы полагать, что меня поволокут на суд за одни лишь нелепые претензии на царство. Решающий удар по спокойствию властей планировалось нанести непосредственно в Храме, в сердце Святого Города. Именно туда продвигалась наша процессия, продвигалась по возможности длинным, извилистым путем, дабы захватить в свою орбиту как можно больше зевак и случайного люда.
Дебош в Храмовом дворе мы репетировали дольше всего, даже выстроили на скорую руку макет в пустыне, недалеко от Кумрана. Это было единственное место, где Йоханан попросил меня внести свою практическую лепту — впрочем, минимальную. Основная работа и здесь падала на плечи кумранских боевых групп. К моменту, когда наша процессия подошла к распахнутым воротам, кумраниты уже рассредоточились на ключевых местах внутри Храмового двора. Йоханан, который всю дорогу вел под уздцы мою ослицу, обернулся и кивнул. Это был сигнал. Я спешился и уверенно двинулся в ворота. Два толстых обормота из храмовой стражи с перепугу наставили на меня острия копий, но я не замедлил шага. «Иди, будто вокруг тебя нет ничего, кроме вечности,» — так учил меня Шимон, и теперь я вел себя в точном сответствии с этим указанием.
Копья качнулись у самой моей груди, толпа взревела, стража бросилась наутек, и я беспрепятственно вошел во двор. Я шел, хорошо видный всем, в центре широкого, образованного кумранитами кольца, как метеор в голове многохвостой людской кометы. Как всегда во время праздника, двор был заполнен менялами, а также продавцами жертвенных ягнят и голубей. Бедняги… еще не зная, что им предстоит, они взирали на меня, открыв рот, а некоторые, заразившись общим энтузиазмом, уже вопили свое «ошиа на!»
Меня подвели к заранее намеченному меняльному столу. Я оторвал свой взгляд от голубого ерушалаимского неба, куда вперялся согласно предварительным наставлениям Йоханана и посмотрел на несчастного торговца. Я сразу узнал его. Это был бывший сосед моего отца, толстяк Нахум из Нацрата. Обычно он в течение всего года выменивал у проезжих купцов и у горожан тирские монеты, подходящие для храмовой подати — в отличие от прочих тирская чеканка не пятнала себя языческими изображениями — а потом, на Песах уносил свою добычу в Ерушалаим, чтобы немножко подзаработать. Пару раз его грабили по дороге, и тогда многочисленная Нахумова семья голодала до самого Шавуота. А еще Нахум был знаменит своим особенным, пронзительно высоким и очень заразительным смехом. Но теперь ему было совсем не до смеха. Теперь он стоял передо мной, выпучив полные благоговейного ужаса глаза и начисто позабыв про свои драгоценные монетки, столбиком сложенные на маленьком меняльном столе.
Уже это было невероятно, потому что о деньгах Нахум не забывал нигде и никогда. Но меня поразило другое: этот человек не узнал меня! Меня, выросшего у него на глазах, игравшего с его детьми, многократно сидевшего рядом с ним за одним шаббатным столом! В последний раз мы виделись около четырех лет назад, но я не мог настолько измениться. Не мог! И тем не менее… Нахум из Нацрата смотрел на меня и видел перед собой грозного и могущественного пророка, возможно, самого Машиаха, солнце, вдруг сошедшее на землю, грозовую молнию, пламенеющую над его разом вспотевшей лысиной! Вы понимаете? Ничтожного бар-Раббана больше не существовало! Я добился своего, о милосердный Боже!
Йоханан незаметно толкнул меня в бок, призывая вспомнить о своих обязанностях. Да-да, конечно… я снова вперился в небеса и проорал два заранее вызубренных стиха из Книги, что-то из Ешаяу и Ермияу, про дом молитвы и про разбойничий притон. А потом, потом… верите ли, я до сих пор краснею от стыда, когда вспоминаю эту минуту… потом я отвел подальше свою поганую ногу и со всего маху ударил снизу вверх по нахумову столику. Нахум коротко взвизгнул, монеты взлетели высоко-высоко, кувыркаясь в голубом воздухе, как золотые голуби, и во внезапно наступившей тишине я услышал, как мой собственный голос провизжал какой-то очередной стих, и сразу после этого раздался звон упавших монет и тогда уже вой, звериный вой погромной толпы.