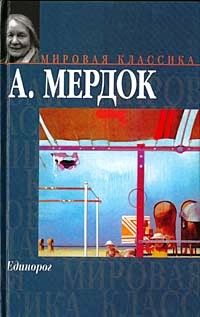— Но такого до сих пор не бывало! Он — не то, что другие коты. Его и не потянет шататься.
— Никуда он не денется, голубка, я уверен. Ну будет, будет, не плачь! Я ужасно расстраиваюсь, когда ты плачешь…
— Я думаю, вас это совсем не трогает! Вас ничем не пронять!
Барбара, сидящая на полу возле кресла Вилли, обвила руками его колени. Вилли резким движением встал, шагнул из кольца ее рук и подошел к окну.
— Я сказал, хватит плакать, Барбара!
От удивления у Барбары иссякли слезы; она осталась сидеть, всхлипывая и вытирая глаза, выставив из-под белого в зеленую крапинку платья плотно сдвинутые голые коленки, похожие на двух светло-бурых птенцов в гнезде.
Вилли, вцепившись одной рукой в подоконник, сдвинул в сторону камушки — последнее подношение близнецов, отодвинул стакан с поникшей, окончательно увядшей крапивой и уставился сквозь швейцарский бинокль в пустое пространство. Надо уезжать отсюда, думал Вилли. С каждым разом невозможность схватить Барбару в объятья доставляла ему все больше страдания.
— На что вы смотрите, Вилли?
— Ни на что, девочка.
— Нельзя смотреть ни на что! С вами сегодня совсем неинтересно. Я уж лучше пойду.
— Не уходи, Барби! А впрочем, и правда иди, пожалуй. Мне нужно работать.
— Хорошо, пойду покатаюсь на пони. И не дождетесь, чтобы я сыграла вам Моцарта!
— У меня к тебе одна просьба — исполнишь, Барб?
— Посмотрим. Какая просьба?
— Ступай разыщи Пирса, и будь с ним поласковей.
— Все может быть. Зависит от настроения. Счастливо вам съездить в Лондон!
Когда она ушла, Вилли Кост запер дверь, пошел в спальню и лег ничком на кровать. Физическое напряжение, испытанное за последние полчаса, отняло у него все силы; его трясло. Непонятно было, что хуже — когда она прикасается к нему или держится на расстоянии. Влечение, острое до боли, чуть-чуть стихало под ее прикосновением. Но сдерживаться в такие минуты, когда каждый нерв и мускул в его теле рвались к ней, стоило нечеловеческих усилий. Сидеть сиднем, когда она ерошит ему волосы или гладит его по колену, требовало такого расхода физических сил, что у него потом ломило все тело. Воображение, живо рисующее ему, как он ее обнимает, страстно целует, сажает к себе на колени, обволакивало облаком сладостной муки.
Я думал, может быть, станет полегче, говорил сам с собой Вилли, но стало, кажется, только хуже. Нужно что-то предпринять. Мне придется уехать, — если так будет продолжаться, я с ума сойду. Он велел себе думать о Мэри, и мало-помалу к нему, подобно легкой дымке, стала подкрадываться блаженная целительная расслабленность. Он не был влюблен в Мэри, но искренне любил ее, и был гораздо больше растроган и пленен ее предложением, чем сумел это выразить во время двух теплых, неловких, косноязычных встреч, которые состоялись между ними после сцены на кладбище. Возможно, он и в самом деле женится на Мэри и не откладывая увезет ее отсюда. Возможно, в этом — решение всех проблем. Почему бы ему, даже сейчас, не попытать счастья? Или уже слишком поздно? Или прошлое действительно сломило его?
Так лежал он без движения ничком на постели, а солнце меж тем клонилось к морю, и вечер сперва заставил краски на берегу полыхать огнем, а после накрыл их прозрачной летней синей темнотой. Вилли лежал с открытыми глазами и молча слушал, как в дверь стучится Тео, — стучится долго, а потом медленно уходит прочь.
«Вы, горы, вы, долины,
Где были вы, когда
Убили графа Мари,
Убили без стыда»[35].
— Да сколько можно, Файви, наконец! — крикнул Дьюкейн в открытую дверь гостиной.
В ответ хлопнула дверь на кухню. Вслед за тем хлопнула дверь в гостиную.
— Простите, Вилли, — сказал Дьюкейн. — Нервы шалят.
— Што с фами?
— А, ничего. Гнетет эта солнечная погода изо дня в день. Это противоестественно.
— Любопытно, зимой эти занятные пятна пропадают?
— Вы о чем толкуете, Вилли?
— Ну, веснушки на вашем дворецком или кто он там у вас?
— Господи! Я даже не задумывался на эту тему. Надеюсь, не пропадают. Они мне, в принципе, нравятся! — Дьюкейн рассмеялся. — Вы подняли мне настроение, Вилли. Не выпьете чего-нибудь?
— Глоточек виски, пожалуй, на сон грядущий. Спасибо.
— Вы здорово загорели. Нежитесь на солнышке?
— Просто лень одолела.
— И заметно повеселели.
— Просто дурь нашла.
— Октавиан и Кейт благополучно отбыли?
— Да, под обычный гам и тарарам.
— Надеюсь, им понравится в Танжере. Мне лично он больше всего напомнил Тоттнем-Корт-Роуд[36].
— Таким, как они, понравится везде!
— Это верно. Счастливого склада люди.
Вилли и Дьюкейн, не сговариваясь, вздохнули.
— Счастье, — заметил Вилли, — это когда твое сознание самым будничным и естественным образом работает, живет полной жизнью и совершенно не занято собой. Ну, а проклятье — когда таким же будничным и естественным образом сознание непрестанно и мучительно поглощено как раз собою.
— Готов согласиться. Кейт с Октавианом — гедонисты, но они не сосредоточены только на себе, и оттого другим рядом с ними хорошо.
Вот та минута, думал Дьюкейн, когда я мог бы, если б очень постарался, заставить Вилли рассказать о себе. Ему, похоже, самому хочется излить душу. Но я не могу, меня слишком гнетут собственные невзгоды.
— Как там вообще, — прибавил он, — все нормально?
— И да, и нет. Я с ними не очень-то и вижусь. Пола чем-то озабочена, что-то гложет ее изнутри.
В этом она не одинока, мрачно подумал Дьюкейн.
— Жаль это слышать, — сказал он. — Надо бы мне уделять Поле больше внимания.
С ходу, не рассуждая, решаю, что для каждого самое необходимое — моя помощь, сокрушенно подумал Дьюкейн.
— Правильная мысль, Джон. А Барбара, бедняжечка, все горюет из-за кота.
— Что, кот так и не нашелся?
— Да нет.
— Придет, будем надеяться. Барби — очень славная девочка, но, конечно, избалована донельзя.
— М-мм.
Дьюкейна не покидало ощущение, что пошатнулись его нравственные устои; ощущение было крайне непривычным и, соответственно, вселяло тревогу. Он относился к числу людей, которым необходимо быть о себе хорошего мнения. В значительной степени жизненную энергию в нем питали чистая совесть и активный, осознанный альтруизм. Дьюкейн, как он сам только что мысленно отметил, привык видеть себя самостоятельным, сильным, порядочным человеком довольно строгих правил, для которого естественным видом деятельности была помощь другим. Если Пола попала в беду, значит, само собой, главное, что нужно Поле, — это поддержка, советы и сочувствие Джона Дьюкейна. Подобный ход мыслей возникал автоматически. В теории Дьюкейн знал, что собственный идеальный портрет бывает часто обманчив, однако в его случае развенчание упомянутого портрета завершилось не ясной картиной неприглядной правды, а только кашей в голове и чувством немощи. Не в состоянии я никому помочь, думал он, и не потому лишь, что недостоин этим заниматься, а потому, что больше не в силах — не в силах протянуть сейчас руку Вилли, деморализован всей этой путаницей, сознанием своей вины…
Накануне он провел часть вечера у Джессики и тупо согласился продолжать с ней встречаться. Они с ожесточением и злобой спорили, как часто Дьюкейну приходить к ней. Он настаивал на том, чтобы лишь раз в две недели. Джессика не срывалась на вопли, не лила слез. Она расчетливо и холодно гнула свою линию. Устроила Дьюкейну допрос, вновь допытываясь, есть ли у него любовница, что он, как и прежде, отрицал. Они обменялись враждебными, недоверчивыми взглядами и сухо простились. Дьюкейн ушел с уверенностью, на сей раз из осторожности не высказанной вслух, что, когда два человека настроены по отношению друг к другу так неприязненно и непримиримо, им должно хватить ума и воли расстаться. Потом, однако, мысленно восстанавливая для себя этот вечер, он так устыдился своего бездушного поведения, что уступил опять чувству неопределенности и бессилия.
Виделся он снова и с Макрейтом; дал ему денег. Пожалел, что так рассвирепел на него в прошлый раз: все-таки и та встреча не прошла даром, выяснилось хотя бы, готов ли Макрейт продать какие-либо дополнительные сведения о Радичи. С горькой иронией Дьюкейн отметил, как развеялись в прах его былые высокие соображения, что подкупать Макрейта безнравственно, что это значит ронять себя — поскольку теперь, во всяком случае, он состоял в коммерческих отношениях с этим субъектом. Макрейт со своей стороны, так и не зная наверняка — чего как раз и добивался Дьюкейн, — намерен ли Дьюкейн в самом деле регулярно платить ему мзду за согласие не посылать писем двум «молодым дамам», юлил, намекал, что мог бы за соответствующее вознаграждение поведать кое-что еще, и назначил новую встречу. Дьюкейн, правду сказать, сомневался, что Макрейту есть что поведать. Насчет писем он говорил себе, что старается просто выиграть время — ничего другого, собственно, ему и не оставалось. Нужно было выбрать подходящий момент, открыть Кейт и Джессике правду о существовании той и другой и подготовить их к предстоящей неприятности. Они — разумные женщины, так что, пожалуй, все сойдет благополучно. Единственное, что понесет серьезный урон, — это его собственное достоинство, и, может статься, этот урон пойдет ему на пользу.