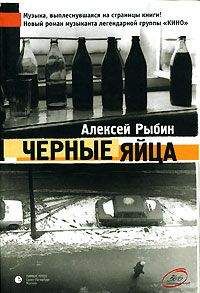Сначала, потея от страха и жара печи Владимир Ильич молчал — от самого Гельсинфорса до Выборга. А потом, вдруг, неожиданно, почувствовал неожиданную симпатию к машинисту — уж больно хорош тот был, когда, проезжая мимо больших станций, бомбы в окно швырял.
На подъезде к Выборгу белоирокезы повстречались, так симпатичный грузин просто в окошко посмотрел, бровями повел — тут же пришпорили коней белоирокезы и растворились в поднявшемся неожиданно со всех финских болото тумане пряча в седельные сумки видавшие виды скальпы. И поглотил их туман, и тьма пожрала белоирокезов вместе со скальпами, лошадьми и политической несостоятельностью.
И тогда начал рассказывать ему Владимир Ильич — и про Маркса, и про Энгельса, про всю братву, и про заводки классовые. И про за базары партийные. И про толстый и обширный базис с тощей жилистой надстройкой.
Миновав Зеленогорск-Териоки чудесный грузин уже и веру новую принял. Обратился.
На отрезке же «Парголово — Шувалово-Озерки» и вовсе фанатиком стал. Пылкий народ, эти грузины. Вот с кем революцию делать надо. А не с Бронштейнами всякими. Ох, не доведут они до добра, не жди от них хорошего.
В Петербурге расцеловался Владимир Ильич с новым членом по-партийному, взасос, крепко, энергично, со значением пошевелил языком в горячем грузинском рту и направился, наконец, на конспиративную, одному ему известную квартиру.
В квартиру эту он мог явиться без звонка, без письменного уведомления, в любое время дня и ночи. Еще бы. Путиловский рабочий Юра Мишунин — цвет питерского пролетариата, на редкость ответственный товарищ. Продолжал числиться на Путиловском, но уже года три прнципиально на завод не ходил. Сидел в своей конспиративной квартире, попивал-покуривал и ждал гостей. Готовился к пролетарской диктатуре, читал Далматова и твердо знал уже, что уже скоро, очень скоро придет то время, когда капиталисты будут работать, а простые люди сидеть и курить марихуану.
Владимир Ильич открыл дверь своим ключом. Свет не зажигал — знал здесь каждый угол, каждый поворот длиного, как прямая кишка, коридора. Пошел своим широким, увереным шагом вперед и тут же ударился лбом обо что-то железное.
Странно. Раньше в этом месте ничего похожего не было. Раньше здесь стоял крохотный самогонный аппарат, которым пользовались все, появляющиеся на квартире у путиловского рабочего Юры — и Владимир Ильич, как-то бражки привез с собой симбирской — и пользовался… но аппарат-то крохотный был совсем — перешагнуть через него можно было понимающему человеку в темноте безбоязненно. А тут — …
Владимир Ильич пощупал ладонью ушибленное место. Судя по стремительно растущей шишке, он налетел на, как знал он из курса диалектического сопромата, на створку пулеметной амбразуры башни легкого броневика. Прямо на заклепку выступающую попал.
Руки бы оторвать молодому пролетарию. Сказано, ведь было — не работай! Так нет, все ему неймется. Собирает, мудак, на своем четвертом этаже броневик. А как спускать будет? Как он в двери-то пройдет? Капитальную стену ломать придется, леса возводить. Ну, да, впрочем, ломать — не строить. Мир хижинам, война дворцам…
Обогнув броневик в полной темноте Владимир Ильич толкнул знакомую дверь и очутился в слабоосвещенной комнате путиловского рабочего.
Привалился к двери спиной. Все. Здесь они его не достанут. Никто здесь его не достанет. Какой идиот, вообще, сюда полезет?..
Путиловский рабочий лежал на полу среди пустых, разбросанных по всей комнате бутылок из-под «Агдама».
Владимир Ильич нахмурился. Видно, не только броневиком Мишунин занимается. Видно, еще кто-то, пока он в Швейцарии от дадаистов бегал, халтурку подбросил путиловскому рабочему.
Ладно. Это тоже изживем. На пленуме ближайшем и изживем. А пока — пока Мишунин нужен партии.
— Здравствуй, Юра, — прошептал Владимир Ильич. — Я вернулся.
Путиловский рабочий с трудом повернул голову на звук и открыл глаза.
— Владимир Ильич, — жалобно простонал рабочий. — Владимир Ильич… Почему они все такие суки?
— Кто? — продолжая оворить шепотом, спросил Владимир Ильич.
Рабочий неопределенно махнул рукой и обреченно сказал:
— Все.
Он медленно встал с пола, покачиваясь подошел к гостю, пожал протянутую руку, икнул и, глядя прямо в глаза — честно, по-пролетарски — спросил:
— Надолго ко мне, Владимир Ильич?
— Как ситуация развернется, — уклончиво ответил Владимир Ильич. Поглядим. — А что? Я мешаю?
— Да упаси господь, — отмахнулся Мишунин. — С крестьянкой я разошелся, так что места навалом.
Владимир Ильич быстро окинул взглядом комнату.
Все по-прежнему. Диван, стол, табурет, патефон с пластинками. Ан, нет есть и нововведения. На стене, среди знакомых дагерротипов и литографий Че Гевары, Фиделя Кастро, писателя-меньшевика Лимонова, неизвестного Владимиру Ильичу, но вызывающему у него симпатию Нейла Армстронга, появились две новых.
На одной был изображен полный, коренастый пожилой мужчина, лысый, с огромным родимым пятном на широком, наводящем на мысль о мыслях, лбу. На другой — средних лет, длинноволосый человек в костюме. Эта литография, в отличие от остальных, имела подпись.
«Юрке от Вавилова на долгую память», — было написано размашистым почерком в левом углу.
— Этих снять! — брезгливо указав рукой на две последние картинки скомандовал Владимир Ильич. Будучи неплохим физиономистом он знал наверняка, что ничего хорошего от этих господ ждать не приходится.
— Есть! — скучно сказал путиловский рабочий и смахнул картинки со стены.
— Устал я, — пожаловался Владимир Ильич.
— Я тоже, — честно признался путиловец и зевнул. — Все жду да жду… Крестьянка-то моя, сука, с кулаком-мельником спуталась. Он ей зерна дает вдоволь, стоит теперь в стойле, да жрет от пуза… А я все жду да жду…
— Я вижу, — усмехнулся Владимир Ильич, пнув ногой одну из пустых бутылок.
Путиловец стыдливо опустил глаза.
— Вы ложитесь, Владимир Ильич, — чтобы сменить тему, хрипло просипел он. — Ложитесь, отдохните. А я вас покараулю.
Глава 2. Последний троллейбус
Чтобы положить конец нечеловеческим страданиям бедняги автобус раздавил его, и все увидели, что недавно он ел клубнику.
Борис Виан. Сердцедер
— Хотя и пил он каждый день — перед работой и в обед, с друзьями-такелажниками, с дворниками, соло, хотя и пил он, но работал лихо и дорос в глазах начальства до того, что был назначен бригадиром. То есть, старшим.
— Заслуженные грузчики, работники со стажем не одобряли новое начальство
слишком молод был по разуменью пролетарских масс
сопливый Огурец,
чтоб управлять огромною махиной
невероятно трепетным составом
бригады такелажников.
С утра им нужно было выпить пива
(а Огурцов и сам бывал не прочь и очень часто,
были б только деньги).
Потом, перед обедом в дело
шел портвейн,
а водка только после двух, к концу рабочей смены.
Такая жизнь мила любому сердцу, но проблема нового начальника
за рамки выходила пониманья
всего состава опытной бригады.
Он деньги зарабатывать хотел
В отличие от тех, что жаждали спокойной, тихой жизни,
пусть и не очень обеспеченной, но безопасной,
в отличие от тех, кого устраивали заработки,
кто не имел несбыточных желаний и послушен
был всем постулатам и законам КЗОТА, Огурец
хотел бы обладать куда как большим годовым доходом.
Не отвечали ветераны на призывы бригадира
к увеличенью прибыли — подмигивали важно,
считая Огурцова сопляком, не ведающим настоящей жизни.
А он хотел всего-то — рисовать нули,
приписывать их к цифрам, что в нарядах расставлял еженедельно.
В месяц получалось
по плану Огурцова каждому на пару-тройку сотен
больше. Одно лишь «но»
— необходимо было заключить негласный договор
с начальством безусловным, то есть, высшим
— партийным, профсоюзным, даже творческим,
включая режиссеров-лауреатов, их именитых сценаристов
и актеров.
Последних, впрочем, и в расчет никто не брал.
Престижу ради лишь заигрывать с актерами рабочие могли.
Рабочему не след якшаться с лицедеем.
Но это отступленье.
Договор, хоть и негласный, был довольно строгим.
Рабочие должны, случись нужда у власть имущих,
без вопросов
перевозить их семьи, мебель, пианино
в квартиры новые, на дачи,
стеречь имущество и бережно следить,
не поломалась чтобы новенькая мебель
при перевозке через город,
дороги коего все в ямах и ухабах,
одно названье, что культурная столица.
Рабочие, отринув искушение, восстали,
как и подобает им.
«Не станем, дескать, холуями и прислугой.
Цемент там, доски разгрузить для производства
— святое дело, пусть и не за триста.
И не за двести даже рубликов.
А за сто двадцать.
Пускай. Но унижаться ради злата — нет!!!
А на портвейн хватает
И на закуску незатейливую так же».
Их быстро Огурцов лукавый раскусил.
Все дело в том, что алиментщиками были
все почти в его бригаде мужики.
Невыгодно им было денег больше получать
— возрастал процент, который вынуждены были
отдавать оставленным своим, любимым прежде женам
неверные мужья.
Ну что же? Огурцов решил, что не удастся грубым мужикам
разрушить славную идею.
Он просто начал увольнять строптивцев безобразных
— одних за пьянку, подло указав
в момент распитья алкоголя на рабочем месте
на них начальникам высоким.
Прочих — за прогулы, опозданья,
или просто хамство,
что свойственно для алиментщиков любых…
Уволив всех, он получил карт-бланш
для выбора кандидатур, чтобы создать особую бригаду
— способную уважить просьбы боссов и, вместе с тем,
работу делать основную, но уже с окладами,
которые укажет, выписав наряды, Огурцов.
Спорилось дело — первым прибыл Мюнхен
— старый приятель бригадира, впрочем, парень молодой.
Он невысок был ростом, но силен ужасно,
ходил обычно летом в майке, что обнажала бицепсы,
на улицах смущающие массы.
«Не отдадим татарам Крым!» — на майке
литерами алыми сверкала надпись,
смущающая пуще бицепсов народ.
За ним явились Скандалист,
Свинья и Вилли
все трое были панки.
Зеленый следующим прибыл — яростный трофейщик,
он в выходные дни раскапывать места
боев по пригородам ездил.
Оружье находил, а что он делал с ним
не знал никто.
Рыба подтянулся, известный тем, что хиппи был и панком,
дружил со всеми видными людьми,
что занимались русским роком в Ленинграде.
Сначала новая бригада пугала внешним видом персонал «Ленфильма»,
после же, когда к ним люди попривыкли,
их стали уважать, любили даже
— за юмор, исполнительность и храбрость.
И, главное, за то,
что исполняли все они со рвеньем план Огурцова по отъему денег
у государства, дряхлого уже,
но все еще смущающего мир своим размером,
войска численностью и суровостью одежды граждан.
— Переходи на прозу, — устало сказал Полянский. — Задолбал.