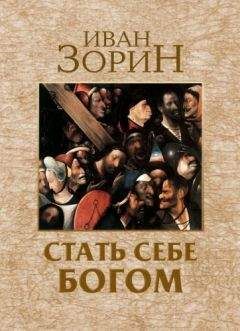Точно. Как в стихотворении: «Весна мне душу веселя, любви подпишет векселя!» А Крыса стережёт, из дома ни шагу. Она и жену первую подыскала, а та сразу после свадьбы залепила: «Муж с женой одна дробь, и, чтобы была правильной, я буду сверху!»
Он подмигнул левым глазом. Я — правым.
А меня жена постоянно в пустые хлопоты втягивала.
Меня тоже, а когда на диване заставала, шутила: «Посмотри, сыночек, на папашу — сарделька в тесте!»
А сама дура-дурой! Раз у нас деньги кончились, так потащила в казино выигрывать. И всё в одну ставку бухнула.
Выиграла?
Ну, выиграла.
Выходит, умён не тот, кто знает истину, а кто упорствует в заблуждении?
Он кивнул.
А за жену я, признаться, и сам цеплялся — от одиночества.
Стена?
Стена.
Опрокинув рюмку, он отвёл глаза. В углу под потолком свисала паутина, зеленела штукатурка, и в её разводах я увидел летний сад с кустами смородины, мальчика с книгой и гладко причёсанную молодую женщину в гамаке.
Он тихо запел:
Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, тёти там и дяди — сволочи и бляди.
Колыбельная для пай-мальчика?
Он отмахнулся.
Лучше скажи, отчего я всю жизнь с краю?
Достали тёти и дяди?
Душу вынули! Пачкуны, зыркуны, строчилы! Куда не глянь — слухачи, шептуны, мелкопакостники.
Он качнул головой, я поддакнул:
Тугоухи, кривоглазы, суеносы.
Пихуны, рогачи, кусаки! Норовят встать над тобой, как числитель над знаменателем!
Шаркуны, топтуны, проныры! Только и слышишь: «вась-вась, вась-вась.» А женщины? Кобылы, вертихвостки.
Я щёлкнул пальцами, он цокнул языком.
Свистушки, охмурялки, кудахталки.
Жужжалки с когтями-локтями!
ляги-приляги.
жабьё-бабьё!
Осёкшись, почесали затылок.
Что-то мы разбубекались.
Сорвались с цепи.
Зато общий язык нашли. — Он засопел. — Между нами, у психиатра я всё же побывал. Мозги-то совсем набекрень.
Тем более сойдёт с рук.
Он хрипло рассмеялся:
Выходит, нормального повесят, а психа — простят?
Протянул руку, и на мгновенье мою ладонь обжёг
холод.
А про стену ты правильно сказал. Всю жизнь её возводим, а под конец и самим за неё не выйти.
Он покрутил рюмку.
Мне вообще-то врач запретил — говорит, возбуждает. Руки, и правда, чешутся.
А чего тянуть? — Растопырив на столе пятерню, я начал втыкать нож меж пальцев. — Раз-два-три-четыре- пять, мы идём искать, раз-два-три-четыре-пять, ты залезла под кровать?
Он пристально посмотрел на меня.
Хоть вздохнём свободно.
И не договорив, провёл по горлу ребром ладони.
Я — вернул жест ему.
Потом наши пальцы соприкоснулись, и меня опять обжёг холод.
За окном поплыла луна, высыпали звёзды. Мы уже с трудом различали друг друга. Он разлил бутылку до
дна, подождал, пока стечёт последняя капля.
А у Лиды, откровенно говоря, самой крыша едет. Через слово крестится, будто в церкви, а чуть что, про Бога. И уверенно так, точно волосы у Него пересчитала. Я вчера не выдержал. Бог, говорю, вроде государства, персональной ответственности не несёт. И судиться с Ним бесполезно, Иов выставил счёт, а толку? Думал, горячиться начнёт. А она только блаженно улыбается.
Счастлив не тот, кто нашёл истину, а кто убеждён в своей лжи. Но что же ты психиатру о Крысе не рассказал, когда про наследственность спрашивал?
У него задёргалось веко.
Это чужая кровь! Чужая!
Он был близок к истерике.
А Лиду ты зачем прогнал?
Лиду?! Она сама! С Мариной Николаевной не поладила!
И в стене появилась трещина?
Он готов был захныкать.
Я понимаю, надоели сцены, её богомольность.
Он всхлипнул, как ребёнок.
Ну, а кто сына за «двойки» бил? Кто приговаривал: «Ничего, свой зуб языка не откусит»? Кто за себя отыгрывался?
Вместо ответа он вытер лоб, устало сощурился. И вдруг его голос стал плаксивым:
Лида нехорошая, а мамочка добрая, и к чаю у неё клубничное варенье.
Хлопнула входная дверь.
Он вздрогнул, уставившись на опустевшую тарелку. Облизнув окровавленный смородиной нож, сунул в карман и, задвигая стул, в последний раз бросил взгляд на отражение в зеркале.
ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ШАХЕРЕЗАДЫ
Если бы месяц назад Матвею Бессарабу сказали, что у него поселится молодая девушка, он бы криво усмехнулся. И не поверил бы вдвойне, услышав, что будет при этом страдать.
Её звали Виолетта Оболонь, и Бессараб годился ей в отцы. Познакомились в интернете и, узнав, что живут в одном городе, решили сократить пространство до постели. И многому научились друг у друга: она — презрительно смотреть на мир сквозь уменьшающие линзы очков, он — тратить деньги, когда их нет. За окном стоял декабрь, а в их комнате царил апрель. Они проводили долгие жаркие ночи, а по утрам жадно рассматривали друг друга в широком зеркале, перед которым она расчёсывала волосы, а он брился. Потом он готовил завтрак, шёл во двор кормить собаку, а, когда возвращался, все бутерброды были съедены и кофе выпит из обеих чашек. На столе лежала записка: «Ушла досыпать, не буди!» Матвей разводил камин и, глядя на пляшущее пламя, размышлял, куда девать прошлое и откуда взять будущее. Он предлагал Виолетте всё. Но у него не было ничего. До обеда он перебирал изъеденные молью годы, жевал мысли и, не выдержав, шёл за советом к соседу. «Жирные девки лучше, — чесал тот затылок, разглядывая фотографию Виолетты, — на однуляжку положит, другой накроет — пыхтишь себе, завариваешься, как чай в чайнике.»
И Матвей Бессараб вспоминал, где находится. Проклиная мир, он возвращался домой и, запираясь на все замки, поднимался в спальню к Виолетте.
Он жил в первый век Консумации, от которой сводило скулы и хотелось забиться в нору. «Займёшься сегодня шопингом?» — через плечо бросал он, мочась в туалете с распахнутой настежь дверью. «Уже занимаюсь», — брала Виолетта в руку его сокровище и, помахивая им, задумчиво разглядывала желтоватую струю.
И тогда Бессараб давал себе слово изменять ей только с самим собой.
На Рождество выпал снег, тощая, с драной шерстью собака, высунувшись из конуры, ловила пастью белых мух. Ковыряя на стекле изморозь, Бессараб думал, что библейский пророк ошибся, и последние времена никогда не наступят, потому что мир лежит не во зле, а в безумии.
«Ориентации на демократические ценности нет альтернативы!» — жужжал в углу телевизор.
«Какая у неё красивая шея», — думал Матвей, разглядывая Виолетту.
«Мы озабочены продвижением товаров на рынке!» — пестрили журналы.
«И грудь», — листал он их, слюнявя палец.
А через месяц Матвей полностью отрёкся от себя. Отказавшись от желаний, он целиком подчинился Виолетте.
«Какая разница от чего сходить с ума? — оправдывался он. — Главное — не сойти».
У Бессараба были свои счёты с миром. Для его понимания у него было чересчур развито воображение.
«Кто наблюдает горизонты, тому не видеть ног», — думал он. И удивлялся окружавшим людям, умевшим без труда проникнуть в чужое сознание, чтобы распознать слабые места, которыми можно пользоваться, как рычагами. В отличие от них Матвей предпочитал думать не о том, что имел, а о том, что недополучил, и при всех талантах был не способен разобраться в себе.
«У нас любовь до гробовой доски!» — щёлкая пальцами, как кастаньетами, танцевал он голым перед Виолеттой. Действительность — это миф, рассказанный себе, Матвей возвёл Виолетту на пьедестал и замкнулся, как в раковину, в её чёрную галку. И всё равно что-то тревожное не отпускало его, если раньше, считая морщины, он не находил себе место от того, что прожил больше, чем осталось, то теперь — от того, что прожил меньше, чем осталось Виолетте. К тому же в его вселенной оказался свой ад. «Мобильный» Виолетты был забит телефонами бывших любовников, и Матвей ревновал.
Я разрешаю дарить мужчинам улыбки, — заключал он с наигранной весёлостью, — можешь флиртовать, ходить под руку, влюбляться, можешь отдавать им душу, подаренные мною украшения, но тело — нет.
Только ты! — горячо шептала она, обвивая его, как плющ. — Только ты!
«Сколько раз ты так говорила?» — хотелось крикнуть ему.
Он до крови кусал губы, и ему не приходило в голову, что, вынимая из шкафа скелеты, разрушает свою вселенную.
Время, как павлин, — переливая цветами, показывает хвост. Днём Бессараб чувствовал себя калифом на час, а ночью превращался в Шахерезаду. «Это случилось на древнем, как мир, Востоке, — целовал он Виолетту в затылок, и её волосы на подушке щекотали ему лицо. — Ага-али-бек был разбойником, и на большой дороге не щадил ни стариков, ни детей. Раз его шайка напала на купеческий караван. В жестоком поединке Ага-али-бек заколол его начальника и с мёртвой руки, ещё сжимавшей саблю, снял драгоценный перстень, украсив им мизинец. Это дерзкое ограбление переполнило чашу терпения правоверных, и уже через год слуги падишаха — да продлит Аллах его годы! — рассеяли банду, так что сам Ага-али-бек с единственным сообщником едва укрылся в маленьком пыльном городишке. Они обосновались на постоялом дворе и опасались выходить на улицу, где их могли встретить рыщущие повсюду стражники. Сообщник Ага-али-бека был христианином. «Чужбина, как тот свет, всех уравнивает, — выплёвывал он через щербатые зубы виноградные косточки. — Как в Царстве Небесном последние здесь могут стать первыми.» И как в воду глядел. Здесь же, на постоялом дворе, Ага-али-бек встретил вдову убитого им купца. Стоптав сандалии, она искала мужа и, от горя выплакав глаза, ослепла. Этим и решил воспользоваться ловкий разбойник. Скрываясь от праведного гнева падишаха, он выдал себя за убитого купца. «О, мой муж!» — нащупав перстень, упала женщина в его объятия. Таким образом, Ага-али-беку оставалось дождаться ночи, чтобы выбраться из города и запустить руку в сундук, который тащили за женщиной двое слуг- мавров. Но разбойнику было не чуждо благородство. Заняв место покойного, он понял, что второго исчезновения мужа женщина не переживёт. К тому же купчиха была красива, у Ага-али-бека вспыхнула страсть, и он решил продолжить обман. Остаток дней он провёл, снаряжая караваны и воспитывая родившихся у него детей. Ты спишь?» Прислушавшись, Матвей отвернулся: «А потом наступило утро, и Шахерезада прервала свой рассказ.»