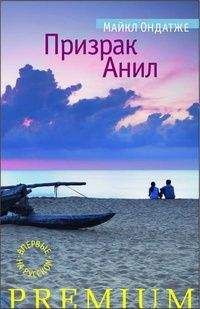Они сидели в «Пекоде» в Сокорро, шепча в послеполуденный воздух:
— Лиф, слушай. Ты помнишь, кто убил Черри Баланса?
Что?
Анил медленно повторила вопрос.
— Черри Баланса, — повторила Лиф. — Я…
— Его застрелил Джон Уэйн. Помнишь?
— Я это знала?
— Ты помнишь Джона Уэйна?
— Нет, моя милая.
Моя милая!
— Ты думаешь, они нас слышат? — спросила Лиф. — Эти гигантские металлические уши в пустыне. Они нас тоже засекают? Я всего лишь мелкая деталь в побочной линии сюжета.
Затем, после проблеска памяти, она прибавила, к ужасу Анил:
— Что ж, ты всегда считала, что Черри Баланс должен умереть.
— А она? — спросил Сарат, когда Анил рассказала ему о своей подруге Лиф.
— Она жива. Она позвонила мне, когда у меня был жар, там, на юге. Мы всегда звонили друг другу и говорили, пока не уснем, смеясь и плача, делясь новостями. Нет, она жива. Ее сестра присматривает за ней неподалеку от этих телескопов в Нью-Мексико.
Дорогой Джон Бурман, у меня нет Вашего адреса, но мистер Уолтер Донохью из «Фабер и Фабер» предложил передать Вам письмо. Я пишу от своего лица и от лица моей коллеги Лиф Нидекер по поводу одной сцены в вашем раннем фильме «В упор». В начале фильма — точнее сказать, в прологе — в Ли Марвина стреляют с расстояния примерно в полтора метра. Он падает обратно в тюремную камеру, и мы думаем, что он мертв. Затем он приходит в себя, покидает Алькатрас и плывет через пролив в Сан-Франциско.
Мы, судебные эксперты, поспорили о том, в какую часть тела мистера Марвина попала пуля. Моя подруга думает, что пуля, скользнув, сломала ребро, но рана была незначительной. Мне кажется, что рана была более серьезной. Я понимаю, что прошло много лет, но, может быть, вы попытаетесь вспомнить и сообщить нам место входа и выхода пули и то, какие указания вы давали мистеру Марвину относительно того, как ему реагировать на выстрел и как двигаться впоследствии, когда герой фильма выздоровел.
Искренне Ваша, Анил Тиссера
Разговор в валавве в дождливый вечер.
— Вам нравится сохранять некоторую неопределенность, не правда ли, Сарат, даже по отношению к самому себе.
— Не думаю, что ясность неразрывно связана с истиной. Это всего лишь простота, не так ли?
— Мне нужно знать, что вы думаете. Отделить одно от другого, чтобы узнать, из чего вы исходите. Это вовсе не исключает сложности. На открытом воздухе тайны оказываются бессильными.
— В любом случае политические тайны не бессильны.
— Но можно уничтожить напряженность и угрозу, которые их окружают. Вы археолог. Истина в конечном счете обнаруживается. Она в костях и остаточной породе.
— Она в характере, нюансах и настроении.
— Они-то и управляют нашей жизнью, а не истина.
— Жизнью управляет истина, — тихо произнес он.
— Почему вы стали этим заниматься?
— Я люблю историю, мне нравится проникать вглубь этих ландшафтов. Словно проникаешь вглубь сна. Кто — то невзначай отодвигает камень, и рождается история.
— Тайна.
— Да, тайна… Меня послали учиться в Китай. Я пробыл там год. И видел в Китае всего лишь одно место величиной с пастбище. Я больше никуда не ездил. Там я жил и работал. Крестьяне расчищали холм и наткнулись на землю другого цвета. Простая вещь, но туда пришли археологи. Под серой землей другого цвета нашли каменные плиты, а под ними деревянные балки, обтесанные, подогнанные и скрепленные так, как будто на лугу уложили пол. Только это был не пол, а потолок… Как я уже сказал, это походило на сон, в который ты погружаешься все глубже. Чтобы поднять эти балки, туда пригнали краны, и под ними оказалась вода — водяная могила. Три огромных пруда, по которым плавал лакированный гроб древнего правителя. Там также находились гробы с телами двадцати женщин с музыкальными инструментами. Понимаете, они должны были его сопровождать. С цитрами, флейтами, свирелями, барабанами и металлическими колокольчиками. Препроводить его к предкам. Когда скелеты вынули из гробов, то повреждений, говорящих о том, каким образом музыкантши были убиты, не обнаружили: все кости были целы.
— Значит, их задушили, — предположила Анил.
— Да. Так нам и сказали.
— Или отравили. Исследование костей поможет установить истину. Не знаю, существовала ли тогда в Китае традиция отравления. Когда это было?
— В пятом веке до нашей эры.
— Да, они разбирались в ядах.
— Мы пропитали лакированные гробы полимером, чтобы они не разрушились. Лак был сделан из сока сумаха, смешанного с разноцветными красителями. Сотни слоев лака. Потом нашли музыкальные инструменты. Барабаны. Свирели из бутылочных тыкв. Китайские цитры. Но больше всего — колокольчиков… К тому времени прибыли историки. Специалисты по конфуцианству и даосизму, по колокольному звону. Мы вытащили из воды шестьдесят четыре колокольчика. До сих пор не было найдено ни одного инструмента той эпохи, хотя известно, что музыка была самой важной деятельностью и идеей этой цивилизации. Поэтому вельможу полагалось хоронить не вместе с его сокровищами, а в сопровождении музыки. Оказалось, что большие колокола, которые мы вытащили из воды, были сделаны с применением сложнейших технологий. Похоже, в каждом регионе имелся свой способ изготовления колоколов. Между ними буквально велись музыкальные войны… Не существовало ничего важнее музыки. Она служила не для развлечения, а для связи с предками, благодаря которым мы оказались здесь, она была моралью и духовной силой. Опыт прорыва сквозь барьеры серого сланца, древесины и воды, чтобы обнаружить там захоронение женского оркестра, подчинялся той же мистической логике, вы понимаете? Вы должны понять, почему они согласились принять подобную смерть. Точно так же террористов в наше время можно убедить, что они обретут бессмертие, если умрут за дело своего вождя… Перед моим отъездом был устроен концерт. Все работавшие на раскопках могли услышать звон колоколов. Мой год в Китае подходил к концу. Концерт состоялся вечером, и, слушая колокола, мы физически ощущали, как их звуки взмывают в темноту. У каждого колокола было два тона, символизирующие две стороны души, которая заключает в себе гармонию противоборствующих сил. Возможно, эти колокола и сделали меня археологом.
— Двадцать убитых женщин.
— Передо мной предстал другой мир со своей собственной системой ценностей.
— Любишь меня — люби мой оркестр. Это может увлечь! Подобный вид безумия лежит в структуре всех цивилизаций, не только древних. Вы, мужчины, сентиментальны. Смерть и слава. Один парень влюбился в меня из-за моего смеха. Он даже меня не видел, не находился со мной в одной комнате, он слышал запись моего смеха.
— И?..
— Он, женатый человек, потерял голову, заставил меня в него влюбиться. Знакомая история. Как умные женщины, забыв обо всем, становятся идиотками. В конечном счете я стала смеяться гораздо реже. И смех мой уже не звучал как колокольчик.
— Как по-вашему, он был влюблен в вас еще до того, как с вами встретился?
— Что ж, это интересный подход. Возможно, дело в тембре моего голоса. Он, кажется, прослушал эту запись два-три раза. Он был писателем. Писателем. Им хватает времени искать неприятностей на свою голову. Меня попросили председательствовать на лекции моего учителя Ларри Энджела. Он обворожительный, забавный человек. Так что я действительно много смеялась над его образом мыслей, над тем, как он связывает различные явления с помощью своего нелинейного мышления. Мы сидели за столом на сцене, я его представила; наверно, мой микрофон не был выключен, и во время лекции я смеялась. Мы со стариной Ларри всегда хорошо понимали друг друга. Наши отношения напоминали отношения племянницы с любимым дядюшкой, слегка окрашенные сексом, но неизменно платонические… Наверное, у писателя, который в итоге стал моим любовником, тоже был нелинейный склад ума: он хорошо понимал шутки. Он заказал эту пленку, потому что интересовался исследованиями в области погребальных холмов или чем-то в этом роде, довольно серьезным предметом, и хотел получить информацию, выяснить кое-какие детали. Так мы встретились. Заочно. В масштабе Вселенной не слишком важное событие… Три года наших отношений были очень напряженными.
*
Первое совместное приключение: Анил направлялась на своей немытой белой, пропахшей плесенью машине в шри-ланкийский ресторан. Это случилось всего через несколько месяцев после того, как Каллис услышал запись ее смеха. Они двигались в вечернем потоке машин.
— Итак. Ты знаменит?
— Нет, — засмеялся он.
— Ну хоть немного?
— Скажем так, мое имя знакомо семи десяткам человек, не считая родственников и друзей.
— Даже здесь?
— Я в этом сомневаюсь. Хотя кто знает? Что это, Масуэлл-Хилл?