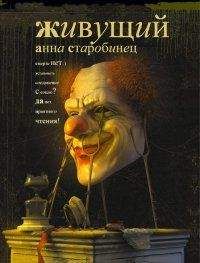Анна Львовна помахала нам ручкой из окна. Мы уезжали.
Черно-белые пейзажи домов, улиц, и черно-белые люди вокруг. Все плохое закончилось, а глаза отказывались это замечать.
Мы оставили этот город с его гигантским «УДОВЛЕТВОРЮ!» на заборе промзоны, и там, за его пределами, наша жизнь, может быть, снова обретет цвет.
Машина нагрелась от солнца. На нее никто не покусился и не посягнул ввиду явной дряхлости, хотя следы гвоздя или отвертки на замках и чей-то невыносимый запах все-таки присутствовали.
Кто-то все-таки ночевал в ней, и не раз, но взять там все равно было нечего, кроме разве засаленной подушки Мурадым-аги, которую мы так и не удосужились выкинуть еще в пути, нас просто завертела жизнь, люди и много чего еще…
Дима держал Глафиру, я двумя пальчиками взяла этот вонючий мешок и кинула его в кусты, но не попала.
— Тяжелая какая подушка, — поморщилась я, — грязи…
Дима, как мяч, пнул подушку ногой — она взлетела в воздух и взорвалась!.. Из нее вместе с перьями посыпались деньги, деньги, деньги!..
Было жарко, светло и солнечно… Только что здесь шли мамы с колясками, носились на велосипедах дети, и кто-то истошно вопил из кустов:
— Смотри-и-и!.. Он идет! Прячься!..
Я оглянулась. Что-то там торчало красное из черемухи… И вот из засаленной подушки летний ветер разносил купюры с лысым черепом американского президента, потом — с прилизанной челочкой и наконец — со слащавой физиономией в галстуке. И — никого вокруг!
Время словно остановилось.
Провал временной все тянулся, пока мы лихорадочно собирали летающие в воздухе деньги, я — в подол сарафана, Дима — просто в руки.
Мы покидали этот город через полчаса.
Провал во времени отошел куда-то в сторонку, и из-за кустов снова кто-то истошно завопил:
— Смотри-и-и!.. Он идет! Прячься!
Я оглянулась, «Газель» качнуло, и мы покинули Полежаевск навсегда.
— Желаю тебе жениха хорошего, пять дочек и денег мешок! — обычно напутствовала меня начиная с восьми лет тетя Варя Тимохина, когда я помогала донести ей воду с колонки. Наша ближняя соседка в Сапожке. «Вот ведь, исполнилось», — вздохнула я и выпустила подол из рук. Деньги упали на пыльный резиновый пол фургона, шевелясь, как живые мыши. Одна денежка даже пискнула…
— Дочка! Цыганочка! Приехала-а-а-а!!! — крикнула моя бабушка, встречая нас на перроне вокзала. Фургон наш развалился, лишь только мы подъехали к Уралу. — А где твой-то? — принимая на руки Глашку, бабушка зорко оглядывала всех выходящих из поезда. На пятачке перед старым вокзальным зданием с золотыми буквами «Сапожок-на-Оби» сидели голуби и две вороны.
— Мой-то?.. Баушк, да вон он чемоданы тащит, сейчас, подожди! — Я вздохнула и всхлипнула: — Ой, ба, как плохо в людях жить! А дома как хорошо!..
— Да, доча, да!.. Дома лучше всего! — вздохнула моя цыганистого вида бабка. — Ой, а Глафира-то вылитая я! Глафира, я твоя прабабка, имей в виду!..
Вот так.
Про Наташу в ее Сапожке я сказать ничего не могу, потому что не знаю. Плацкартный билет до Сапожка изрядно дорог. Наташа с мужем уехали, и дай им бог всего! Всего-всего!!!
А вот про Альбину мне местная гадалка нагадала, что жить они с Иншаковым будут в радости, согласии и долго-о-о. И родятся у них пять сыновей, один краше другого… И все пятеро будут адмиралами.
Ну что же, поживем — увидим. А пока…
Пока.
Пес печатал-печатал, а последняя глава все никак и никак…
Абзац следовал за красной строкой, потом шли запятые, снова буковки, кавычки, бр-р-рррр…
И допечатался до того, что уснул прямо за клавиатурой…
Последние слова, выбитые темно-рыжей лапой, были про свое, про собачье.
«Слепой поводырь. Цыганочка с выходом».
Пес хотел напоследок рассказать и поведать миру, как хозяин вместо чая выпил водки и потащился сам и повел его (какая прогулка без собаки!!!) на середину трассы Москва — Крым голосовать, чтобы домчаться с ветерком до Бахчисарая, искупаться в море где-нибудь в Судаке, поесть алычи и вернуться тем же макаром в Полежаевск на Архангельскую улицу.
Хозяин пса был экстравертом, хорошо хоть слепой, с такими-то замашками он вмиг расшвырял бы весь мир к черту на кулички!
— Ой-ой! — Пес заскулил, всхлипнул и, цапнув во сне блоху, продолжил спать, не слыша, что входная дверь уже открылась…
Тихо вошла дочь хозяина, грустная молодая дама в очочках и юбке, сквозь которую сияли, как мотыльки в ночи, бархатные и мягкие коленки.
Дама посмотрела на храпящего папу, укрытого новым шотландским пледом, и в удивлении взглянула на пса, сидящего, как человек, перед компьютером, только тяжелый хвост свисал до полу, чего у людей обычно практически не бывает. Ну, или оч-чень редко…
На дисплее изумрудами горели и переливались пять завораживающих слов:
«Куплю свадебное платье. Цыганочка с выходом».
— Ну, папка!.. Ну, дает! Все-таки отстучал роман-то… Через какое-то время «Цыганочка с выходом» вышла в мягкой обложке и без помпы и прочих рекламных трюков затерялась среди сотен таких же книжек, написанных людьми, а не собаками. Вот если бы, конечно, кто узнал и шепотом передал другим, что это творение лап, ума и чистого сердца Лабрадора Нельсона Батиаса Крузенштерна, то, конечно, книжка была бы издана и переиздана во многих-многих странах на всех континентах, и ее читали бы не пять тысяч пассажиров Московского метрополитена, а все пять миллиардов ныне здравствующих читателей этой голубой Земли.
Аф-аф! Увидимся! 7 октября 2002 г.