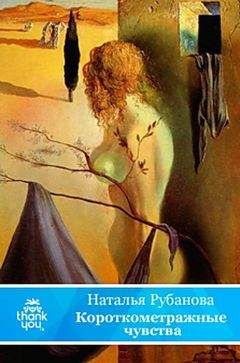Когда же мы познакомились с А. — питерским режиссером и впоследствии — уже в 90-е — продюсером, которому приглянулся мой сценарий о телезакулисье — злой такой «социальный» сценарий, жесткий (на тот момент времени, конечно), — я и понятия не имел, к чему могут вообще привести съемки.
Он был старше, носил бороду и черные шелковые рубашки: в глаза бросались запонки самых немыслимых форм и расцветок, но, в общем-то, в остальном пижоном А. не был. Об ориентации же его никто особо не знал, за исключением друзей — мы познакомились позже: славные киношные ребята, прикрывающиеся женами или подругами, которые, впрочем, так же прикрывались ими — девочки были еще те. Они не задавали лишних вопросов и упархивали с улыбкой, словно тонкокрылые насекомые — странно, что не через форточку; они пахли собой, алкоголем и дорогим парфюмом — впрочем, как и А. в тот поздний вечер, когда съемки закончились за полночь и все решили наконец-то расслабиться. «Кларет — вино для юнцов, порто — для мужчин, но тот, кто стремится стать героем, должен пить бренди!»[29] — А. заговорщически подмигнул мне, доставая из бара пузатую бутылку. Не знаю, что там во мне тогда перемкнуло — то ли от усталости, то ли от опустошенности, черт его знает — только совершенно внезапно я поймал себя на мысли, как сказали бы, от лукавого: «Вот это глаза… В таких утонешь — не заметишь!». Обыкновенно фразы такие применительны к женскому полу, и я растерялся; А. же, приметив эту мою растерянность, ничем себя не выдал: о, то слишком тонко для «грубого мужского секса», как называют его те, кто ничего в нем не смыслит.
Несколько раз мы «дублировали» таким образом «джонсоновские бренди», а потом случилось то, что случилось, и слова любви, слетевшие с его мужественных губ, были обращены ко мне, и ни к кому другому. «Ты, конечно, можешь сейчас же уехать, но я подумал — ведь хуже не будет, хуже ведь не бывает… Гарри, ты чувствовал когда-нибудь мужчину?»
…
У Гарри о ту пору мужчин не было, и «он» не знал, как реагировать. «Его» безумно тянуло к этому человеку — от него шел такой изнурительный аромат свободы — да-да, именно изнурительный аромат свободы, — что крыша по-настоящему плыла.
Однако в тот вечер «Гарри» стало не по себе: «он» отвел глаза и промолчал. И каково же было «его» удивление, когда «он» увидел А. — самого А.! — стоящего перед ним на коленях! Но даже в такой позе А. не казался плебеем — напротив: царская «стойка». Гордая. Удивительная.
— Постельные сцены в тексте отсутствуют? — нетерпеливо любопытствует любезный читатель и, испугавшись собственных крамольностей, тут же прячется за спину Гарри, продолжающего как ни в чем не бывало: «Он был богат. Я, в общем-то, тоже не беден, но если б не деньги, которые А. удивительным образом умел доставать буквально „из-под земли“, большая часть всех этих фильмов никогда не увидела бы свет. Впрочем, я никогда не обольщался: Бунюэля или Бергмана из меня так и не вышло — да фигуры такого масштаба здесь и сейчас и невозможны: авторское кино, в сущности, удел избранных. А в стране, где живет Плохиш Гарри Друбич, навсегда избраны „кухаркины дети“».
Софка слушала меня, подперев голову рукой; глаза ее готовились брызнуть Ниагарой. Налив еще сто, она все-таки разревелась:
— А как же секс? Наверное, это так мучительно… Одной любовью разве сыт будешь? — она подхватила вилкой колечко лука и проглотила вместе со слезой. — Не представляю, как можно любить на расстоянии так долго! Бедные мои мальчики…
И тут я рассмеялся, а Софка, кажется, обиделась: впрочем, скоро пятница, вечер. Ничего, кроме этого, ничего не имеет смысла.
— Ялос, Ялос! — услышала Мария и обернулась. — Ялос!
Человек в белом напудренном парике, одетый по европейской моде восемнадцатого века, шел по Набережной и, размахивая руками, говорил сам с собой.
— Ялос! — человек приблизился к Марии, а поравнявшись, пошел дальше. — Ялос!
— Еще один… Нажрутся, легенд этих идиотских наслушаются, — пробубнила про себя уставшая от себя Мария и посмотрела вниз, где недалеко от воды фотографы с пошленькой бутафорией красивой жизни якобы двухсотлетней давности пытались привнести «красоту» в мир: приезжим — в изгаженную Ялту — за гривны.
Будто прочитав ее мысли, странный человек обернулся и, немного медля, поспешил назад, к Марии, пытавшейся достать сигарету. Но ветер был слишком силен для этого времени года: Мария никак не могла прикурить.
— Позвольте? — предложил незнакомец огниво.
Мария, быстро заглянув в зрачки мужчины, отметила, что тот трезв необычайно и что его платье заметно отличается от тех дурацких пестрых подделок, оставшихся там, внизу, у фотографов. Мария глубоко затянулась и хотела уже было ограничиться «спасибо», однако что-то удержало ее. Быть может, это были руки безымянного человека с удлиненными фалангами пальцев, быть может, его выпуклый лоб, а может, глаза, цвет которых Мария удивленно и бессознательно, подобно 25-му кадру, отложит в выдвижные ящички памяти.
ОКОЧУРИТЬСЯ — умереть, издохнуть, околеть, побывшиться, протянуться. Обмереть, упасть в обморок.[30]
…Ночную сорочку можно было надевать только спереди: из-за нарыва он не мог поворачиваться: руки и ноги были воспалены и отекли. Ватный халат сиротливо висел на спинке стула. Снова пришел доктор, чтобы сделать кровопускание и поставить на голову холодные примочки с уксусом: после таких процедур больной часто терял сознание. Пение любимой канарейки слишком волновало его, поэтому клетку пришлось перенести в другую комнату.
Рвота отнимала все силы: почти полная неподвижность в течение последних пятнадцати дней. Когда 5 декабря 1791-го, около часу ночи, ОН умер, его и без того больная жена легла на ту самую постель, чтобы умереть от той же инфекции. Д-р Клоссет дал ей успокоительное, затем женщину с двумя детьми отправили к друзьям.
«Любой труп должен быть обследован перед погребением, чтобы было ясно, что не произошло насильственное умерщвление… умер ли человек естественной смертью или его жизнь закончилась насильственным образом. О выявленных случаях необходимо сообщать властям для дальнейшего официального обследования. По поводу убийств, самоубийств, преступлений должно быть назначено судебное расследование».
My tres chere Cousine!
Прежде, чем написать Вам, я должен сходить на двор… теперь дело сделано! Ах, как стало снова легко на сердце! Словно камень с души свалился! Теперь снова модно лакомиться! Если опорожнился, то можно жить в своё удовольствие… Да-да, моя любимая девица-сестрица, вот так на свете этом: кому кошель, а кому монеты. Чем Вы держите это? Рукою, не правда ли? Хур-са-са! Кузнец, подержи мне, молодец, но не жми, подержи, но не жми, мне жопу оближи… Воистину, кто верит, тому воздастся, а кто не верит, тот в рай попадет; но попадет напрямик, а не так, как я пишу. Так что вы видите, что я могу писать, как захочу — красиво и дико, прямо и криво… Ничего нового не знаю, кроме того, что старая корова насрала нового дерьма. Засим addieau, Анна-Мария-Замочница, урожденная Ключеделка. Будьте отменно здоровы и всегда любите меня; напишите мне поскорей, потому как страшный холод на дворе…
Мария не знала, что делать: то ли тут же брать интервью, то ли пустить на самотек, то ли — нечто третье. ОН пристально посмотрел на нее и, видя замешательство, улыбнулся: «Вы всегда сможете найти меня в трактире Серебряная змея. Там всегда собираются актеры и музыканты». — «Но где этот трактир и как я найдут его?» — «Там, сразу за гостиницей. Вы непременно его увидите!» — «А они? Они — тоже увидят?» — «Какое вам дело до них? Я же сказал, вы всегда найдете меня в Серебряной змее».
Мария отвернулась всего на секунду: рядом с ней уже никого не было. Она потерла виски и огляделась. Набережная гудела, плыла, покачивалась на тяжелых волнах шашлычных испарений и промозглого морского воздуха. «Дикая смесь! — подумала Мария. — Совершенно дикая смесь! Как же я хочу в то место, где нет этих ужасных гор и этого проклятого чистого воздуха!»
Мария кашляла, вдыхая чистое.
ХИРЬ — хиль, хилина, хворь, болезнь, недуг. Хиреть — болеть, худеть, чахнуть, сохнуть, изнемогать, дряхнуть.
…В комнате стоял кисловатый запах; Констанце и Софи приходилось шить по несколько ночных сорочек — больной сильно потел, и на теле его от этого выступала просовидная сыпь. «Четыре гранта рвотного порошка растворить в одном фунте воды. Каждые четверть часа давать больному. После рвоты, чтобы облегчиться, давать пить теплую воду», — настаивал д-р Штолль.