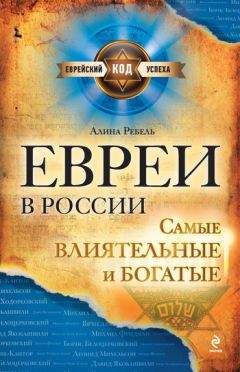– Что вы такое говорите, мадам Коган? Я ж имею точные данные, что она ваших евреев из дома всех до одного повыдавала. И доктора Франка, и сапожника Каца, и Бронштейна. Ну всех, чисто всех, кто остался! – воскликнула Нагорная. – И вы ж ее еще защищаете?
– Брехня все это! Чистая брехня. Не выдавала никого бабка Маня!
– закричала тетя Паша.
– Нет, мадам Нагорная, такую бумагу я не подпишу, – твердо отрезала бабушка и поджала губы. А уж если бабушка поджала губы, то тут хоть головой об стенку бейся, ее не переупрямишь. Я свою бабушку знала хорошо.
– А я вам напрямки скажу. Я баба простая. – Тетя Паша оттеснила назад бабушку и стала прямо перед Нагорной. — Надумалось вам занять комнату бабки Мани, бо она с балконом. Думаете, мы здесь все глухие, чи що? И гроши ей совали, и сало давали. А она – ни в какую. Хочу в своем гнезде помереть.
– Ишь ты, как запела! Много знаешь, как я погляжу, – подбоченилась Нагорная. — Надо еще проверить, чем ты сама здесь занималась в оккупацию. Думаешь, проститутка, на тебя управы не найду? Кто у тебя месяц без прописки ночует, а? Или если он с черного хода через третий этаж приходит, так и все – концы в воду! Нет! Советская власть мне не зря доверила. Я выслежу.
– Що? Ах ты стерва такая! Та, може, у нас кохання? — всплеснула руками тетя Паша и по-девичьи покраснела.
– Знаем мы это ваше кохання. За деньги и хлебные карточки. С голодухи пухнешь. Вот тебе и кохання. Себя и щенка своего прокормить не можешь. Конечно, это легче, чем по людям полы мыть, стирать чужие тряпки и вонючие горшки выносить.
– Тише! Как вам не стыдно, мадам Нагорная? Дети могут услышать, – вмешалась бабушка.
– Ха, дети. Ее Ленька, – Нагорная ткнула красным наманикюренным пальцем в тетю Пашу, – того и гляди сопрет что-нибудь. Не зря его все босяком зовут. А эта ваша тихоня, – и она повернулась в бабушкину сторону, – только и знает, что ходит и подсматривает, что я в кастрюлю кладу. Побирушка рахитичная! Бабку Маню и ту объедает.
Мне захотелось выскочить из-за шкафа. Крикнуть этой Нагорнихе прямо в лицо: «Врете!» Но тотчас вспомнила морковные чаи с сахарином у Марии Федоровны. Она то и дело зазывала меня. Иногда, не устояв перед ее уговорами, я съедала тонкий ломтик хлеба.
«Ешь, – повторяла она, – ешь. Тебе нужно расти». Я сжалась в комок от стыда.
– Ничего, я всех выведу на чистую воду, – пригрозила Нагорная и хлопнула дверью. Но тотчас вернулась, подошла к бабушке. — Вы эту церковную крысу защищаете, а она в вашей квартире немку скрывала. Она все ваше богатство в распыл пустила.
– Не лгите, – тихо сказала бабушка. — Я сама перед эвакуацией Марте Генриховне предложила пожить у нас. Она одинокая бедная женщина.
– Она фашистка, немка, – выкрикнула с ненавистью Нагорная.
– Мало они, значит, вас уничтожали, раз вы их жалеете. Мало.
– Вы недостойный человек, мадам Нагорная. – Я увидела, как лицо бабушки пошло красными пятнами. И мне стало страшно. — Выньте из ушей сережки моей дочери. Стыдно носить краденое.
– Вот оно что! Вот как вы запели! — Нагорная что есть силы стукнула по столу рукой, и алюминиевая кружка со звоном подскочила.
— Больше я вас кормить не буду. И на работу у меня можете не рассчитывать. Такие портнихи, как вы, в базарный день гроша ломаного не стоят. А то нашли себе дурочку. Я за патент плати, я клиентов ищи. Я туда, я сюда, а она будет, как королева, сидеть и строчить.
Все, кончено. Ищите себе другую работу.
Бедная, бедная бабушка. Она так радовалась, когда Нагорная предложила ей работу. «Ну, теперь я тебя живо на ноги поставлю, – говорила она мне. — Теперь все твои болезни как рукой снимет».
Шутка ли? За сотню лифчиков бабушка получала не какие-то там рубли, а самое настоящее сливочное масло. Желтое, как цыпленок.
Ах, как оно таяло во рту. Какой вкус оставался после него. Ходишь целый день и вспоминаешь, как о празднике. Целые сто граммов этого масла давала бабушке Нагорная и еще стакан молока впридачу. И бабушка строчила и строчила эти проклятые лифчики всю ночь на своей старенькой машинке «Зингер». «Зингер», – любила она повторять, – наше богатство.
Это богатство сохранила нам во время войны Мария Федоровна.
Когда мы вернулись из эвакуации, она бросилась бабушке в ноги: «Простите меня, Дора Ильинична! Простите, Христа ради! Я всю вашу мебель на дрова в сорок четвертом году порубила, а свадебный сервиз на муку обменяла. Все хотела Мишеньку спасти. Но, видно, много я грешила в жизни – не отмолила его у Б-га. Если жива буду, я вам отработаю. А машинку вашу – «Зингер», я сохранила. Берегла как зеницу ока. Простите меня, если сможете». — «Что вы такое говорите! – заплакала бабушка Дора. — Люди, и какие люди, сгорели в этой войне, а вы о какой-то мебели. И что ж это за грехи у нас с вами перед Б-гом, что он забрал к себе наших детей, а нас оставил мучиться и вспоминать. Нет, если родители хоронят своих детей, значит, нет Б-га ни на том, ни на этом свете. А за машинку спасибо вам большое, теперь мы с Риточкой богачи».
На следующий день после скандала Валька очертил мелом кусок коридора и сказал нам с Ленькой:
– Все, за эту черту не переступайте. Здесь моя территория. Мать сказала, чтоб я с вами никаких дел не имел, голодранцы вы вшивые.
Мать, если захочет, всю вашу квартиру вместе с вами и вашими бебехами купить может. Знаете, сколько у нее денег? Вот такая пачка!
– И он развел большой и указательный пальцы.
– Слышь, Валька, – сказал Ленька и циркнул слюной на Валькину территорию, – а твоя мамаша может тебе похоронный оркестр закупить?
У нас все во дворе знали, что Валька любит похороны. Звуки траурной музыки трогали его до слез, и он обычно шел за оркестром через весь город до самого кладбища.
– А что, – сказал Валька, – если я попрошу, то купит.
С тех пор мы стали его звать Купи Похороны и между нами начались драки.
Вечером Ленька, хлебая затируху на кухне, заявил матери:
– Слышите, мама, если вы еще раз к Нагорнихе найметесь полы мыть или белье стирать, так я ей все стекла из рогатки повыбиваю.
Вам хуже будет.
– А ну цыц, – сказала тетя Паша, – не твоего ума это дело. – И щелкнула его ложкой по лбу.
Прошла неделя, другая. История эта как будто забылась. Жизнь шла своим чередом. Только теперь бабушки с утра до вечера не было дома. Она после работы шила мешки в какой-то артели. А ночами, конечно, по-прежнему подрабатывала на дому. Как-то перед праздником Первого мая тетя Паша пришла к нам и, смущаясь, сказала:
– Бабка Дора, а не откажите, будьте ласкавы. Сшейте платье какое-никакое. Я ведь замуж собралась!
– Да что вы говорите, Пашенька! — обрадовалась бабушка. — За кого же?
– За Степана Васильевича, домоуправа нашего, – расцвела улыбкой тетя Паша.
И правда, первого мая тетя Паша испекла пирог с картошкой, наварила холодца и сделала целую кастрюлю винегрета. А после окончания демонстрации мы сдвинули столы на кухне, накрыли их простыней, а посередине поставили букет сирени, за которой Ленька мотался в парк. Но когда нужно было садиться за стол, он вдруг заупрямился:
– Мама, зачем вы позвали эту гадюку Нагорниху. Не буду я з ею исты за одним столом.
– А нехай вона подивится на наше кохання, щоб у ней очи повылазилы, – сказала тетя Паша и засмеялась. – Мне теперь со Степой сам черт не страшен, не то что тая Нагорная.
Она была такая красивая в тот день, наша тетя Паша, в своем новом платье, а волосы у нее были уложены валиком. Стали одаривать молодых. Нагорная подарила метр бязи, бабушка – подушку. А Мария Федоровна пожелала счастья и подарила маленькую серебряную ложечку, а потом, не удержавшись, заплакала:
– Это Мишенькина.
– Не журытысь вы, бабка Маня, – обняла ее тетя Паша. — Вот народится у нас хлопчик, назвем мы його Мишкой, и будете вы його нянчиты и бигаты як молода.
– Дай-то Б-г, дай-то Б-г, Пашенька, – прошептала Мария Федоровна и улыбнулась сквозь слезы.
И стало очень весело, и все были так счастливы, что бабушка Дора сказала: «Совсем как до войны». Потому что до войны все были живы и здоровы, а хлеб был без карточек.
А потом встала Нагорная и сказала:
– Я хочу поднять тост за то, что и у нас в квартире наконец появился мужчина. И не какой-нибудь, а заслуженный фронтовик. – А после засмеялась и шутливо погрозила пальцем Степану Васильевичу. – Я ведь, грешным делом, чуть было не заявила на вас участковому. Ну как уполномоченная по нашей коммуналке. Слышу, ктото там ходит чужой, а кто – никак не могу выследить. А вдруг враг какой? Раз мне Советская власть доверила, так я должна в оба глаза глядеть, ночей не спать. Верно я говорю, Степан Васильевич? – И посмотрела ему прямо в глаза.
– Так-то так! Да ведь и я не лыком шит. Как-никак бывший фронтовик, – засмеялся Степан Васильевич. — Уж если я бабу вокруг пальца обвести не могу, то грош мне цена, дорогая товарищ Нагорная. – А потом посерьезнел и добавил: – Вы верно поступаете. Нам всегда нужно быть бдительными, потому что враг может быть и среди нас, и очень даже ловко маскироваться. Это тебе не фронт, там все ясно. А здесь никогда не знаешь, кто – друг, а кто – враг. Потому что чужая душа – потемки. — Сказал и стукнул правой рукой по столу, как припечатал. А на руке у него были вытатуированы голубь с голубкой, восходящее солнце и буквы: «СССР».