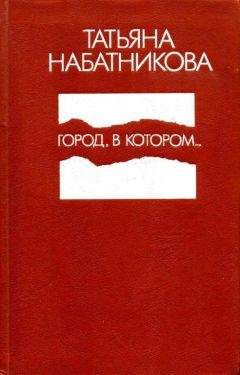— Ну… — запнулся Юра. — Почему же «прикрываться»? Не прикрываться, а выявлять профнепригодность. У нас здесь энергетическое предприятие, а не богадельня.
— Готовьте вопросы для аттестации. На засыпку товарищу, — сказал Путилин. Теперь он настаивал, чтобы вещи были названы своими именами.
— Товарищ тут ни при чем. Мы о деле должны думать, — обиделся перспективный демагог.
— Печетесь о деле, Юрий Васильевич? Но вы ведь уезжаете. На кого же вы д е л о оставите?
— Ну как хотите. Я могу и не вмешиваться…
Потом еще один разговор.
— Глеб Михайлович, гарантии, конечно, никакой нет, но… я имею в виду, дело запущено…
— Какое дело? — насторожился Путилин, к одному тону Хижняка чувствуя брезгливость.
— Ну, насчет заграницы…
Боже мой! Вот так разрешишь однажды человеку считать тебя подлецом — и потом попробуй отними у него это право! И его взгляд на тебя будет затягиваться петлей у тебя на шее, и не выпутаешься.
Однажды в давнее студенческое время, когда еще только пробовал жизнь, как воду босой ногой: не холодная ли, когда ничего еще не знал заведомо, и вот курсе на втором было им предложено, кто пожелает, написать по философии научную курсовую работу — несколько тем на выбор. Стимул: если работа будет зачтена хорошо, освобождение от экзамена. Автомат.. И Глеб соблазнился. Он выбрал тему «Социальное значение НТР». Ну, чего там, все ясно. Прогресс, и все тут. Освобождение для гармонического развития личности. Остается только надоить из этого побольше слов, чтобы реферат оказался потолще. Девятнадцать лет, уже вполне осмотрелся, понял, ЗА ЧТО получают конфетку. Встал и сам в очередь за конфеткой — бесплатной. Вот подошла очередь, вот ты уже выкрикнул похвальное «дважды два — четыре» и протянул руку за вознаграждением. А преподаватель прочитал заголовок твоего реферата, ему и заглядывать внутрь не понадобилось, все содержание было написано на твоей роже и вся степень научности твоего труда.
— Как скажется на личности труд, состоящий из нажимания на кнопки? — спросил преподаватель.
— Ну… — озадачился Глеб.
Не дожидаясь ответа:
— Можете ли вы с уверенностью сказать, что, когда мы достигнем достаточно высокой производительности труда, у нас не будет безработицы?
И посмотрел Глебу в глаза. Тихо так спросил, вполголоса. Совсем не так, как с кафедры вещал. Скажи сейчас Глеб «уверен» — и он получит свою конфетку. Не посмеет преподаватель не дать ему эту конфетку. За благонамеренность мысли.
Преподаватель молчаливо пытал его взглядом. «Знать будущее» Поль Валери назвал самым вздорным устремлением человека, а историю — «самым опасным продуктом, вырабатываемым химией интеллекта, ибо в истории нет никакой очевидности, позволяющей ей диктовать народам образ действий». И что «история оправдывает все, что пожелает». Но здесь дело было не во «вздорности устремлений» — а в согласии Глеба на легкую — дешевую — конфетку, вот почему усмехнулся преподаватель, вот почему Глеб ужался, усох от стыда и молча протянул руку за своим трудом. И преподаватель, чуть презрительно пожал плечами и отдал эту работу, оставшуюся без рассмотрения. Они оба как бы договорились считать постыдный этот эпизод не имевшим места; и чтобы впредь больше не спекулировать на черном рынке, наживаясь на чужой беде или чужой глупости — и на любой другой чужой несостоятельности.
И вот перед Путилиным, сорокалетним главным инженером, стоит — нет, уже не такой, как был тогда Путилин, уже поздно: стоит готовый демагог, и стыд, к которому сейчас взывай не взывай, — уже не сработает. Опоздал ты, Путилин. Надо было хотя бы на полгода раньше. Хотя бы тогда, когда ты подмазывался к его продажной загранице, помогши ему убедиться в единственности этого пути людей. К растлению этого человека ты руку приложил, Путилин, хотя сам в молодости был спасен преподавателем, себя не пощадившим, собой рисковавшим, лишь бы отучить тебя от любви к легкой поживе — ведь, чтоб спасти, достаточно и одного взгляда, но отправленного вовремя, а у тебя, Путилин, вовремя этого взгляда не нашлось, а теперь уж этого Хижняка не то что взглядом — пикой не пронзишь, затвердел.
— Бог с вами, Юрий Васильевич, какая заграница! — в ярости (на себя) заорал Путилин. — Вы с вашей заграницей совершенно запустили все дела! Сколько времени не игрались тренировки на вахтах! Немедленно…
Вот и все, что он мог теперь, не смогший вовремя.
Хуже того, стыднее того — спустя несколько недель, скрепя сердце, скрипя зубами, он вызвал к себе Хижняка:
— Скоро уедете, квартира останется пустой? — Подъем крутой, тяжкий.
— Ну… да… — Юра на всякий случай колебался, как любой купец, еще не раскусивший цели супротивника.
— На два года?
— Ну, я не знаю, на сколько меня вызовут.
— Меньше, чем на два года, командировать специалиста нерентабельно.
Путилин легко раздражался, так нестерпимо ему было проводить этот разговор, но в Москве у него жила двадцатипятилетняя возлюбленная, без которой он больше не мог, не хотел, не согласен был терпеть, он и так жил с воспаленным взглядом и с трудом припоминал себя и все, что его касалось; каждую минуту его заносило далеко отсюда, и водворение сознания в колею стоило усилий.
— Ну, значит, на два.
Юра не обиделся на тон. Правильно, на том пути, который он себе выбрал, от такой роскоши, как обида, приходится отказаться. Сутенерам обидчивость не по карману. И Путилину сейчас ничего не по карману, он на все согласен, делайте со мной что хотите, но дайте мне ее, дайте!
— Не пустишь меня? — как в холодную воду оборвался.
— Вас? Не понял. У вас же есть квартира.
— Ну, значит, нужна!
— А, иногда? — понятливо глянул Юра — с подлым своим понятием, и Глеб не мог дать ему в морду. Не мог, вот в чем горе.
— Нет, жить постоянно…
— Да? А. Не понял, правда, но все равно. Неужели?.. — начал догадываться, но счел, видно: какое ему дело! — Конечно же да, как вы могли спрашивать. Конечно же, какой разговор.
— Спасибо, — сухо сказал Глеб. Ох и ненавидел он сейчас Юру за все, что происходит.
Вичка его тогда спасла:
— Ничего не выйдет. В квартиру Хижняка я не пойду.
Она, правда, что-то там еще плела по телефону великодушное насчет жены Путилина, которую ей, видите ли, было жалко. Дескать, какой удар для нее будет, что муж уходит к другой, и не просто к другой, а к молодой бабе, и поэтому Глебу, по ее словам, следовало сперва уйти от жены в н и к у д а, а не к Вике. Но он ее быстро расколол:
— Что тебе Хижняк? У тебя что, с ним что-то было? Говори!
Ничего, перенес и это. Но сказал. Много чего ей сказал. И еще:
— Вся непоправимость в том, что я тебя люблю.
— Да, — отвечает со злостью, — положение у тебя безвыходное.
— Обиделась, что ли? А чего мне перед тобой лебезить. Не на светском рауте.
— Я не обиделась, — говорит. — Я взрослее тебя и поэтому не обиделась. Ты энергетик, и больше ты никто. Молокосос ты еще, чтобы я на тебя обижалась. Это надобно заслужить, чтобы на тебя обижались.
— А вот так тебе со мной лучше не разговаривать.
— Не нравится — не слушай. И не звони больше.
— Сама же первая и позвонишь.
— Не позвоню и не приеду.
— Отлично! Считай, что я тебя об этом и не просил.
— О чем?
— Приехать.
— Куда? В квартиру Хижняка?
— Нет уж, с этим у тебя ничего не выйдет. Еще я не жил с тобой в квартирах своих предшественников.
— А я, кажется, и не просилась у тебя в эту квартиру.
— Придется, видимо, тебе потерпеть, пока станции не дадут жилье.
— Попробуй только отодвинь из очереди Горыныча!
— Ах, и Горыныч тут как тут! А можешь ты мне назвать хоть одного человека в нашем городе, который не показывал бы на меня пальцем, умирая со смеху?
— Такого человека, Глеб, не найдется в твоем городе, это я тебе сразу должна сказать. Но все-таки было бы лучше, если бы ты разменял свою квартиру, это было бы справедливо. И не пользовался бы служебным положением — это, знаешь ли, чревато…
— Ну уж это фиг! Моя жена и так остается с носом. Я не альфонс!
— Все. Мне хватит. Надоело. Оставайся на память от меня своей жене. Дарю! Я ей тебя дарю вместе с квартирой и с твоими потрохами, чао!
Да… Много перебыло таких разговоров. Пока этот извергшийся вулкан не остыл, пока не осел этот носящийся в воздухе пепел, пыль. Много понадобилось времени.
Вчера, задумавшись, выглянул в окно мансарды, которую они с Вичкой тут снимали, и: вон моя милая! Стоит себе во дворе, разговаривает с хозяйкой. А он — будто три года был на фронте и вот вернулся, и видит ее, а она его еще не увидела, но сейчас вот оглянется — и они повстречаются.
В самые счастливые свои минуты (а теперь они были у Глеба, и он узнал точно) человек печален. Видимо, от предчувствия, что придется расстаться со всем, и с этим — тоже. И сожаление о радости превозмогает саму радость.