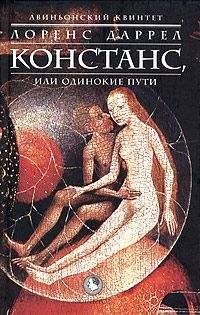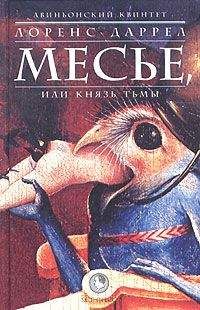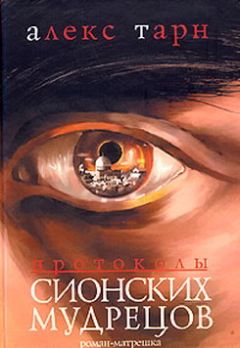Все слушали его с почтительным вниманием.
— Не было никаких сокровищ! — воскликнул он уверенно. — Не было!
Наступило долгое молчание. Офицеры повернулись к Смиргелу, словно к оракулу, который, единственный, имел право на свое мнение об этом предмете, — собственно, так оно и было, ибо никаких других обязанностей, кроме поиска сокровищ, у него не имелось. С насмешливым видом он закурил сигарету, потом, внимательно глядя на Констанс, видимо, чтобы понаблюдать за ее реакцией, сказал:
— От старшего клерка Катрфажа мы слышали совсем другое. Мы арестовали его, и я лично его допрашивал. Должен прибавить, что этот вопрос очень важен для нас, так как сам фюрер выразил к нему горячий интерес. Я здесь с особым заданием — раскрыть тайну сокровищ.
На лице принца появилось раздражение, ибо он заподозрил что, возможно, лорд Гален нашел сокровища, но никому не рассказал об этом, так что в тайну посвящены были только сам лорд Гален да еще Катрфаж, в тайну сада с непростым расположением деревьев — quincunx.[122] Нет, такого не может быть! Лорду Галену не хватило бы ума вести двойную игру, ничем себя не выдав. Он решительно покачал головой и произнес:
— Нет, это невозможно! Во всяком случае, нам не удалось его найти. Мы даже не установили, существует ли оно на самом деле. А Катрфажа уже уволили, когда… вы, господа, пересекли границу Франции.
Смиргел лгал, чтобы выяснить, что им известно, — такой итог подвел принц. Очевидно, что самим нацистам ничего неизвестно. Но им надо дать отчет Гитлеру, и в этом все дело. Принц вздохнул. Он решил еще раз поговорить о сокровищах с лордом Галеном, когда встретится с ним в Египте. А пока необходимо что-то предпринять, чтобы облегчить участь несчастного клерка.
— Где вы держите этого парня? — спросил принц, однако ему никто не ответил, и он не стал настаивать, переключившись на приготовления к поездке в Виши, в печально известное бюро, занимавшееся делами евреев.
Тем временем Констанс согласилась показать Лансдорфу, где находится ее дом, — он предложил заехать за ней назавтра и отвезти ее в Тюбэн, просто чтобы выяснить, стоит ли овчинка выделки, не слишком ли дом далеко от города и от военных, на случай если понадобится защита. Прозвучало это фальшиво.
— Вряд ли меня застрелят французы!
Лансдорф слегка покраснел.
— Тем не менее! — произнес он, и они скрепили договор рукопожатием.
Немного погодя дежурный автомобиль повез гостей обратно в Авиньон. На мосту его остановил военный патруль, рьяно отслеживавший нарушителей, — комендантский час начинался в одиннадцать часов, однако адъютант, сопровождавший Констанс и принца, назвал свое имя и поручился за них. Отель был погружен во тьму, но стоило им постучать, как в дверях возник управляющий, — он дремал прямо в кресле — дожидаясь их. Он приготовил кое-какую горячую еду и бутылки с горячей водой, чтобы согреть постели. Оба, и принц и Констанс, были рады вновь оказаться в отеле, так как устали от путешествия и были подавлены увиденным и услышанным. Утомление и уныние не оставляли их, к которым добавлялось еще и раздражение. Оно усилилось из-за ощущения некоей нереальности, словно все вокруг было укутано в вату. Уныние и безысходность выплескивались из людских душ в атмосферу и заражали ее; даже едва взглянув на город из окна машины, они не могли не замечать, что повсюду — лишь унылые лица. Они почуяли теперь смердящий запах войны; это было хуже, чем запах безумия, запах беды. Ведь это был запах интеллектуального бесчестья, человеческой лживости. Констанс села на край кровати, согревая руки чашкой кофе, и стала вспоминать прошедший вечер. Зажженная свеча разгоняла тьму вокруг. Констанс стала вспоминать, о чем говорили немцы; она педантично восстанавливала все в памяти, словно пыталась найти ключ, который заводит солдат, заставляя их подчиняться страшным приказам. Вдруг промелькнула мысль: «Они не стыдятся того, что делают!» И Констанс похолодела от ужаса. Легла в кровать, тихонько задула свечу, а потом начала устраиваться поудобнее в холодных простынях, пропахших сыростью. В ночном кошмаре ей привиделся голубой пристальный взгляд Фишера, его глаза, напоминавшие камни, старые стершиеся геммы. Это был взгляд, полный подсознательного эротизма. Этому человеку ничего не стоило вас совратить одной своей улыбкой. В нем чувствовалась глубоко запрятанная загадка, которую еще никто не сумел разгадать. И в нем был некий магнетизм, в отличие от остальных, которых было легко понять и легко классифицировать. Генерал — безобидный дурак, способный и на хорошее и на плохое, в зависимости от того, какой получает приказ. Его очень смутила ее красота, значит, им будет нетрудно управлять, если понадобится…
Объект этих нелестных суждений тоже улегся в постель — улегся, чтобы, наконец, поспать, но, увы, в этот вечер надеяться на сон было бы глупо, до того его поразила эта незнакомка, может даже и не женщина, а оживший призрак. Констанца! И фон Эсслин погрузился в воспоминания о ее светлых волосах, о теплых голубых глазах; его чувства обрели необычную нежность, особенно глубокую, наверное, потому, что они относились к давно умершей женщине. Досаждали встречные течения, быстрины, мели, которые меали ему погрузиться в обычное оцепенение. Например, он получил письмо от Katzen-Mutter, которое вызвало в нем угрызения совести. Это было короткое печальное письмо об их родовом поместье, и на середине оно прерывалось сообщением о самоубийстве польской горничной; она ударила себя в сердце старым кинжалом, который был атрибутом уже забытой полковой формы и всегда висел на стене в его комнате, над письменным столом. На столе она оставила записку, написанную на топорном немецком языке: «Я не хочу быть рабыней». Его мать даже намеком не упрекнула его и ничем не выдала, что она знала об их отношениях… и все же! Похоже было, что она знала, и ему стало очень стыдно из-за того, в чем его лично никак нельзя было обвинить.
Вспомнил он и об «акции» в поле, на которой он, будучи начальником, не мог не присутствовать, — «приведение в исполнение смертного приговора». Тогда были расстреляны двадцать жителей деревни, возле которой franc-tireur стрелял в его танкистов и двоих убил. У него появилось ощущение, будто он сразу и намного постарел, что он устал до безумия, но держался он твердо, как ему велел долг, вышагивая туда и обратно мимо убитых. На них почти не было крови. Лежали они в самых разных позах. В своей потрепанной черной зимней одежде они были похожи на пыльных кур, улегшихся возле крошечного военного мемориала. К себе в кабинет он возвратился с раскалывавшейся от боли головой, ощущая, как два разных чувства, вызванные двумя разными событиями, лишают его покоя. А может быть, он подхватил грипп? Однако и в ту ночь, и в следующую он видел в снах польскую горничную, а, проснувшись, мечтал найти способ исповедоваться. Где-то должен быть священник. И опять проклятая двусмысленность его католической веры придавила его тяжким грузом. Почему бы не пойти в собор? И, правда, почему бы нет? Но он не мог, будучи военным начальником, передвигаться без охраны. Он боялся, что его пристрелят. Остается выкрасть священника? Он хрипло рассмеялся. Может, вместе со всеми здешними прихожанами пойти к мессе? Но он плохо говорил по-французски, очень плохо.
Неприятности сказывались на его здоровье. Опять мучили запор и колит — его детские болезни, на которые больше не действовали ни сенна, ни касторка. Зато теперь, после встречи с Констанс, все чудесным образом уладилось. Он знал, что найдет в себе мужество и побывает на исповеди — может быть, пойдет в часовню Серых Грешников, возьмет Смиргела и отправится в Монфаве; на что ему нужны охранники? Никто и не заметит. Фон Эсслин ликовал, словно эта странная встреча была добрым предзнаменованием. Констанс! Почитать бы что-нибудь, да нечего, а ему были необходимы полчаса спокойствия, прежде чем сон предъявит на него свои права. Тогда он вновь с растерянностью и с почтением взял в руки тонкую брошюру для служебного пользования — образец интеллектуального «абсолюта», предложенный доктором Геббельсом. Читалась она трудно — из-за «Протоколов сионских мудрецов». Кстати, фон Эсслин не был убежден в том, что роль золота была действительно исторической; он чувствовал чрезмерность в подаче материала, однако документ официальный, и кто он такой, чтобы оспаривать факты, представленные Розенбергом? Розенберг сам еврей — ему ли не знать? И это было еще более непостижимо. Все же фон Эсслин неожиданно успокоился, даже впал в эйфорию. Доказательство: его заблокированные внутренности исполнили свой долг с шумом, с расточительностью, словно возмещая страдания во все те дни, что он мучился запором. Радуясь облегчению, он заснул, мысленно отметив, что завтра же должен побывать в часовне Грешников.