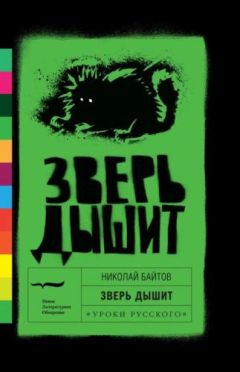На домике написано «шахматы», а они играют в домино. Как будто нет рядом другой беседки, совершенно свободной. Да, но на ней ничего не написано. И хорошо — значит, можно играть во что угодно. В домино, однако ж, а не в преферанс. Как только шахматисты их допускают? Сказали бы: «идите, дескать, в свою беседку». Да шахматистов-то сегодня нет. Они считают себя интеллектуалами. Пусто-пусто в сердце моём. А что называется «гитлер»? Уже не помню. Шесть-шесть, может быть. Как-то это связано с числом Зверя, нет? Я обещал на эти темы при нём больше не разговаривать.
Проблемы, которые он ставит передо мной, они далеко выходят за рамки любви и нелюбви. Ну, люди любят, чтоб кто-то кого-то ударил. Мне этого НЕ нужно, честно сказать. Я могу уничтожить любого человека. Тебе это что-нибудь нужно? Когда найдёшь, тогда и приходи. Я не собираюсь в этом мире никого уничтожать. Это не моего ума дело. Ты пойми, что никто же уже отвечать за свои поступки не может. Потому что люди тупы абсолютно. Бьют только один раз, одним ударом, бывают такие случаи. Он всегда говорил: «Серёга, пошёл ты в жопу!» Так его Господь и забрал, несмирившегося. Так устроена жизнь: ты здесь ни при чём, и я тоже. [Я отстой отстоя]. Гм! Легко ли говорить, когда жизнь вот так существует?
Но это всё такие пустяки. У тебя жил дома сверчок когда-нибудь? — Только в детстве, в Черёмушках. Нет, ещё в Николо-Кузнецах жил домашний на кухне. В какое-то лето они в Звереве расплодились. В саду, в галерее, в офисе — всюду трещали. Но мелкие. В общем, несерьёзные. С домашними не сравнить. В сравнении со смертью и любовью.
Ну что же стоишь, не меня ли жалеешь? А может, сама ты боишься сказать. Тогда подойди, мы друг друга согреем. Не зная себя, не жалея себя. Ну, вот тут как раз о сне. Называется «Реальность». Уже не сон, но недопробужденье. 76-й год. Гармонии рваная боль. И дуют ветры. Несутся времени года. Год каждый — как всегда. Хлам прошлогодний срывает с времени вода. Невежество, презренье, насмешки, улыбка снисхожденья и дитя. Ногами вверх и к небу головой.
Она умерла, а он уже больше месяца лежал в морге. [Во хер орехов]ый! Я, на самом деле, даже и не хочу каламбурить. То есть… Ну, то есть «то есть» есть? Да, всё современное искусство становится искусством каламбура. Это моя фраза. Но мне бы хотелось, как дадаисты, говорить словами, которых никто раньше не употреблял. А кто мешает? Вон почитай Кононова. Серьёзный человек, ничего не скажешь.
Я забыла, в какой директории этот черновик. Теперь не могу найти. Все художники почему-то думают, что они гениальные поэты, и готовы часами в упоении декламировать свои беспомощные бледные вирши. Потеряла пароль, забыла, в какой директории я его сохраняла. Там за ширмой стоит человек эпохи Директории. Причём ему кажется, что он стоит в костюме должностного лица. Есть такие костюмы. Были, — во всяком случае, в ту эпоху. Я не знаю, как они выглядели. Нет, это его иллюстрация к маркизу де Саду. Судья у них вроде благосклонный, всё понимающий. Да приговор-то вряд ли от него зависит. Какой ему скажут, такой и вынесет. Быть может, старая тюрьма центральная. Нет, не на нары. Условно, понял, условно, понял, условно. Пусть в его взгляде проглядывает всегда любовь к правде и милосердие, чтобы не думали, что его решения вынесены под влиянием алчности и жестокости.
Так вот, насчёт инквизиции. В надежде, что репутация относительной кротости, которой славились францисканцы, смягчит отвращение населения к новому учреждению. Misericordia et justitia. Хотя их первоначальное самоотречение было добродетелью весьма редкой и весьма хрупкой. А что — доминиканцы? Эта ненависть началась давно, и обе стороны лишь искали случая удовлетворить её. Не стесняясь в средствах. Что, как ты понимаешь, грозило церкви. Скандалом и большой опасностью. Он тщательно выискивал еретиков, скрывавшихся во мраке своих заблуждений. Но Григорий ответил, что его ревность идёт по ложному пути, так как он в основном карает своих врагов. Еретики, конечно, с удовольствием любовались картиной, как их преследователи жгут друг друга.
Леночка побаловала нас бананами. Прикольно, но ноль. Адвокатский сын в Спасо-Нетопырях. Племянник, говоришь? Ну, пусть. Нет банана на нанайца. А чего они хотели? Чего хотели, то и получили. Всё это мало интересно. Стёб, стёб и стёб — и ничего больше. А митрополит-то Кирилл, а? Это пока тебя не касается. До поры до времени. А то ещё скоро за порно начнут судить. Порно — спорно. А им-то что? У них пассионарность. Засудят. Да по́лно. Их страсть также не стоит перепелиного яйца. Нет её. Не столько национальное, сколько позициональное. Лишь в политических видах хладнокровно манипулируют они упёртыми недоумками. Разжигают при помощи простых, всем известных технологий. А у меня искры гаснут на лету. Да ладно тебе.
Не ори. А говоришь — не касается. Society, кого спасаете? SOS! Не ссыте. А пососать не хотите? Чего? Колокольню Ивана Великого. Хороша фотка, да? Коллаж. Смотри, губы. Нет, самое трудное для меня — это шея и ключицы, я уже говорил. Поэтому не будем повторяться. Фотохудожник должен иметь глаза черепахи. Нет, пассионарность — не страсть. Разные вещи. Историческая энергия, власть, уверенность. Вы боитесь власти? [Мы ссым.] [Ад, ужас, самомассаж уда!]
Он напился и орал мне на каком-то вернисаже, предлагая орать ему. Наташа Шмелькова тоже в него плюнула, из солидарности. Или ты забыла кресла вернисажа? Где вернисаж — там эпатаж. Но, взглянув на пейзаж, приуныл экипаж: всюду скалы, провалы и бездны. Ну, это же искусство, contemporary art. Вам что, жалко кроссовок обоссанных? Конечно. Ещё бы. Вещь всё-таки. Покупаешь — выбрасываешь, покупаешь — выбрасываешь. А какими подвигами славен сам Олег? Он себя распял на андреевском кресте и теперь скрывается в Болгарии от преследований русской церкви. Да, как видно, перформанс — искусство не для слабонервных. Остался только его дружок — император Вава́. Вот такая информация. Медали раздавал на АртКлязьме. Из чего можно сделать недорогую медаль, не знаешь? Отражение солнечного дня накладывается на книжные полки.
(6)
И тогда найти меня будет непросто. Я там плачу о тебе, о себе, о Муре. О необоримой сладкой ничтожности. И не нужно её обарывать зачем-то, как это делают глупцы. Нет, люди, не отдающие себе отчёта. У которых это не вызывает ничего, кроме раздражения. Или презрения, — если они думают, что прекрасно понимают.
Непонятно, какими путями будет шествовать, где лежать, прятаться. Где обнаружится. Выйдет куда? наружу? — вот это странно. Кто в осеннюю ночь, кто, скажи мне на милость, — и т. п. и т. д., — кто развернёт на столе образец твоей прозы?.. И зачем он это сделает. Мурины письма? И что с ним должно произойти после этого? С «ним» или с «ними»? Но обычным любителям наш темп выдержать трудно. Мы загнали немало таких поклонников.
Не лыжня, а фигня. Вся в колдобинах. Ходят по ней и проваливаются. В марте и феврале все дни недели по тем же числам. Это каждый год, если только не високосный. Что там пилить сейчас? Там пурга. Засосёт снег, и выйдет из строя болгарка. На фиг это нужно. Не надо толкать так бестолково. Смотри, кто это бегал? Маленькие какие-то, которые не проваливались. Ворона так бы не могла ходить по насту. Да не будут они хлеб. Им семечки подавай. И в снегу они не найдут. Синицы и лазоревки — это один вид? Почему-то вместе летают. Совсем разная форма головы и цвет. Да им-то что. Вот и называй после этого. Думаешь, они не видят или обращают внимание на другое? Самоидентификация — это страшилище. Блаженны, кто её не знает. Собственно, мы даём имена не предметам, а кластерам.
А рандомизацию поэт не применяет? Очень жаль. Если угодно знать, это такая процедура. Нет, не понимаю я этих людей. А ты попробуй целый день одни апельсинчики и яблочки — знаешь как вкусно покажется! Горечь горячая. Но находить в этом удовольствие не всякий может. Тогда хоть чистотел. Полчашки отвара натощак. Всё равно — нет у меня доверия к твоему деверю.
Несла в оскаленных зубах божественную знаменитость. После нескольких глотков воды прислушивается к продолжительным шорохам и скрипам внутри тела. Следи внимательней, вратарь, за криком, топотом и бегом. Я пришёл-сяду сюда, и мне не очень важно, где пришёл ты. Моя задача — делать всё возможное, чтобы меня заметили. Кто на слуху — тот и ху-ху. Она срезает крышу, выскребает всю мякоть. И эту мякоть перемешивает с кремом и клубникой — свежайшей, с огорода. Всё это уминает внутрь, покрывает крышу. Сверху мажет кремом и ещё несколько клубничин кладёт.
Прежде чем называть вещи какими-либо именами, поэту следовало бы применить к ним процедуру рандомизации. Или «рЭндомизации» — так тоже говорят. Да разве ей кто-нибудь это скажет? Папа Римский благословил её на написание стихов. На писание. Он, впрочем, на гробовом пороге. Сделали какую-то операцию, да не одну. Благословить может на что угодно. Вряд ли он читал, что она прислала. Секретари. Формальная отписка — «пиши, Эллочка, пиши». Нам это не канает. Послала б нашему Патриарху — шиш бы получила, даже от секретаря Чаплина. Мы — православные, нам Римский папа не авторитет насчёт её письма. И вообще. Ведёт себя как дура надутая, на этом сайте. Хейдиз-то, гляди, всё-таки добилась участия в биеннале, вот упорная. Каких трудов ей это стоило! Плутовка в fishnets. Небесный свод в неё провис. Посмотри, трусы видно?