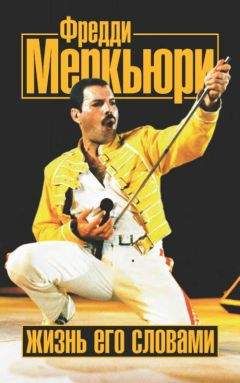«Послушай, – сказал Хогг, – зачем ты это сделал?»
Я растерялся. Этот вопрос я себе не задал ни разу – по крайней мере, вот так, напрямую. «Знаете, сержант, – сказал я, – вы задали очень непростой вопрос». Выражение его лица нисколько не изменилось: он стоял, как стоял – разве «что шевельнулись на голове гладкие волосы, а в следующее мгновение я почувствовал вдруг страшную боль – казалось, что-то внутри, печень или почки, рвется на части. Сильнее, чем боль, было только изумление, да еще какое-то особое, извращенное удовлетворение. Я упал на колени в горячем тумане. Нечем было дышать. Лысый оторвался от машинки, встал, обошел стол, поднял меня, подхватив под мышки (он сказал: «Ну-ка вставай, а то простудишься», или это мне только послышалось?), повел по коридору и втолкнул в крошечный вонючий нужник. Я рухнул на колени перед унитазом, и меня вырвало омлетом, картошкой в масле и кислым молоком. Боль в животе была просто сверхъестественной, даже не верилось, что такая бывает. Когда рвать больше было нечем, я повалился на спину, задрав ноги и продев руки под коленями. «Ну вот, – подумал я, – это дело другое. Можно было заранее предположить, что я буду кататься по полу и выть от боли». Лысый постучал в дверь. «Проблевался? – участливо спросил он и непринужденно добавил: – Так всегда бывает: блюешь и думаешь – когда же столько сожрать-то успел?»
Хогг стоял у окна и смотрел во двор, держа руки в карманах. «Полегчало?» – поинтересовался он, покосившись на меня через плечо. Хаслет сидел у стола с рассеянным видом и хмуро барабанил пальцами по кипе бумаг. Он указал мне на соседний стул. Я сел – с опаской, на краешек. Когда он повернулся ко мне лицом, колени наши почти соприкасались. Хаслет поднял глаза, словно что-то высматривая на потолке. «Ну-с, – сказал он наконец, – поговорим?» Да, да, конечно, мне хотелось говорить и говорить, довериться ему, излить все свои жалкие тайны. Но что говорить? И какие такие у меня были тайны? Лысый уже опять сидел за машинкой, положив на клавиатуру свои толстые пальцы и жадно уставившись мне прямо в рот. Застыл в ожидании и Хогг; он по-прежнему стоял у окна и гремел мелочью в кармане брюк. Пусть себе слушают – эти двое меня мало интересовали. Другое дело – инспектор. Он постоянно мне кого-то напоминал, кого-то, с кем я вместе учился, одного из тех скромных, неприметных героев, которые одинаково хорошо успевали и по физкультуре, и по математике, но сторонились похвал, стеснялись собственных успехов, собственной популярности. У меня не хватало духу признаться ему в том, что признаваться-то не в чем, что никаких планов я не строил и что действовал с самого начала, можно сказать, наобум. Поэтому-то я понес какую-то ахинею о том, что хотел, мол, выдать ограбление за террористический акт, и прочий вздор, который стыдно даже здесь повторять. «А потом эта девушка… – начал я. – Эта женщина… – я вдруг забыл ее имя! А потом Джози… все испортила, она не давала мне вынести картину… она набросилась на меня, угрожала, что… что…» Мне мучительно не хватало слов, и я смолк, беспомощно глядя на инспектора и теребя пальцы. Ужасно хотелось, чтобы он мне поверил. В эти минуты доверие его значило для меня почти так же много, как и прощение. Воцарилась тишина. Хаслет по-прежнему внимательно изучал потолок. Возможно, он меня и не слушал. «Господи», – тихо, без особого нажима проговорил Хогг. Лысый откашлялся. Затем Хаслет, поморщившись от – боли и согнув одну ногу в колене, встал, вышел не торопясь из комнаты и мягко прикрыл за собой дверь. Слышно было, как он удаляется по коридору той же неторопливой походкой. Откуда-то издалека доносились голоса – его и кого-то еще. Хогг с отвращением смотрел на меня через плечо. «А ты, я смотрю, шутник, а?» – обронил он. Я хотел было возразить, но счел за лучшее промолчать. Время шло. В соседней комнате кто-то засмеялся. Во дворе завелся мотоцикл. На стене висела пожелтевшая памятка: «Что надо делать при укусе бешеной собаки». Я прочел ее и улыбнулся: «Бешеная собака Монтгомери посажена наконец на цепь».
Инспектор Хаслет вернулся в сопровождении двух человек: крупного краснолицего потного мужчины средних лет в полосатой рубашке и молодого парня с отталкивающей внешностью под стать Хоггу. Они обступили меня и, подавшись вперед, упершись ладонями в стол и тяжело дыша, долго меня разглядывали. Я снова повторил свой рассказ от начала до конца во всех подробностях, стараясь самому себе не противоречить, однако на этот раз история получилась еще более неправдоподобной. Когда я закончил, опять, как и в прошлый раз, наступило молчание. Я уже начинал привыкать к этим недоуменным и, по всей вероятности, весьма скептическим паузам. Краснолицый – персона, насколько я мог понять, важная – был в ярости, которую сдерживал с большим трудом. Назовем его… Баркер. Он окинул меня пристальным, злобным взглядом. «Ладно тебе, Фредди, – сказал он наконец, – говори, зачем убил?» Я уставился на него. Его презрительный фамильярный тон (какой я тебе Фредди?!) мне не понравился, однако я решил не придавать этому значения. Я узнал в нем себе подобного: такой же крупный, вспыльчивый, так же тяжело дышит. Постепенно все это начинало действовать мне на нервы. «Я убил ее потому, что сумел, – сказал я. – Что тут еще говорить?» Мы все (и я ничуть не меньше остальных) были потрясены услышанным. Тот, кто помоложе, Хикки, нет, Кихем, громко хмыкнул. Его тонкий, пискливый, довольно даже мелодичный голос никак не соответствовал угрожающему виду и повадкам. «Этот, как его, – сказал он, – он что, гомик?» Я беспомощно посмотрел на него, не понимая, о чем речь. «Простите?» – «Этот Френч, – нетерпеливо повторил Кихем, – он пед?» Я рассмеялся, не мог не рассмеяться – такой смешной, даже абсурдной казалась сама мысль, что Чарли может зайти в паб Уэлли и там тискать его мальчиков. (Как видно, дружок Уэлли по кличке Сынок, щеголявший в рубашке изумрудного цвета, распространял про Чарли гнусную ложь. Боже, в каком порочном мире мы живем!) «Нет, нет, – возразил я, – нет, у него иногда бывают женщины…» Если б я так не нервничал, если б вопрос Кихема не застал меня врасплох, я бы всего этого не сказал – шутить ведь я вовсе не хотел. Никто не засмеялся. Они продолжали молча смотреть на меня, и молчание с каждой минутой становилось все напряженней: казалось, оно вот-вот лопнет, как перекрученная пружина. Но вдруг все полицейские, как по команде, повернулись на пятках и один за другим вышли в коридор, хлопнув дверью, а я остался наедине с лысым, который улыбнулся мне своей нежной улыбкой и пожал плечами. Я сказал, что меня опять тошнит, он вышел и вскоре вернулся с кружкой липко-сладкого чая и куском хлеба. Почему, скажите мне, от одного вида этого чая мне становилось тоскливо, как беспризорному ребенку? Каким же заброшенным и бесприютным казалось теперь все вокруг: и эта жалкая комнатушка, и далекие голоса людей, живущих своей жизнью, и двор, залитый солнцем, тем самым, что неизменно светит сквозь годы из самого далекого детства. Вся эйфория, которую я испытывал совсем недавно, исчезла безвозвратно.
Хаслет вернулся, на этот раз один, и, как и раньше, уселся со мной рядом. Он снял пиджак и галстук и закатал рукава рубашки. Волосы у него растрепались, отчего он был особенно похож на мальчишку. Он тоже держал в руке кружку с чаем – гигантскую кружку в крошечной белой ручке. Я представил его себе ребенком: поле протянулось до самого горизонта, под ногами чавкает болото, они с отцом собирают торф, по воде плавают щепки, запах дыма и жареного картофеля, плоская равнина цвета заячьего меха – и огромное стоящее торчком небо с нарисованными на нем пучками облаков с золотыми прожилками.
«Начнем по новой», – сказал он.
Мы просидели несколько часов. Солнечные лучи в окне становились все длиннее, день клонился к вечеру, а я, счастливый оттого, что меня слушают, никак не мог остановиться. Хаслет проявлял бесконечное терпение. Его интересовала каждая мелочь, любая, самая пустячная подробность. Нет, не совсем так. Создавалось впечатление, что его вообще ничего не интересует. Все перипетии моего рассказа он воспринимал с неизменным выражением терпимости, с неизменной, немного озадаченной улыбкой. Я рассказал ему, что давно знаком с Анной Беренс, рассказал про ее отца, про алмазные копи, про бесценную коллекцию картин. Я внимательно следил за инспектором, пытаясь понять, что из рассказанного ему известно и без меня, однако Хаслет держался безупречно, ничем себя не выдавал. А ведь он наверняка разговаривал с ними, брал у них показания. Не могли же Беренсы не сказать обо мне – вряд ли они прикрывали меня до сих пор. Он почесал щеку и опять вперился в потолок. «Этот Беренс выбился из низов, ведь так?» – спросил он. «Как, в сущности, и все мы, инспектор», – отозвался я, после чего Хаслет как-то странно посмотрел на меня и встал. Я заметил, что и на этот раз он морщится от боли. Коленная чашечка. Футболист. Воскресный вечер, в молочном воздухе приглушенные крики болельщиков, глухой стук кожи по коже. «Ну а что теперь? – с тревогой спросил я. – Что будет со мной дальше?» Мне не хотелось, чтобы он так рано уходил. Что я буду делать, когда станет темно? Хаслет сказал, что мне надо назвать лысому имя своего адвоката, чтобы адвокат знал, где я нахожусь. Я кивнул. Никакого адвоката у меня, понятное дело, не было, но признаться в этом я не мог – – это бы нарушило ту непринужденную, почти приятельскую атмосферу, которая возникла между нами, породило бы неловкость. Как бы то ни было, я намеревался сам вести собственную защиту и уже рисовал в своем воображении, какие блестящие и страстные монологи я буду произносить со скамьи подсудимых. «Я должен что-нибудь еще сделать? – насупившись, спросил я. – Кому-нибудь еще дать знать?» (Каким же я был паинькой, какой овечкой, как во всем слушался этого доброго малого и какое удовольствие сам же от этого получал!) Он опять как-то странно посмотрел на меня – в этом взгляде чего только не было: и раздражение, и нетерпение, а также некая ироническая удовлетворенность и даже, пожалуй, намек на сопереживание. «Прежде всего вы должны рассказать все, как было, без этих ваших фокусов и вывертов», – сказал он. «Что вы хотите этим сказать, инспектор? Что вы имеете в виду?» Я терял под ногами почву. Боб Черри вдруг показал зубы, превратился, пусть и ненадолго, в мистера Куэлча[8]. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду», – сказал он и ушел, прислав вместо себя Хогга, который вместе с лысым (ради Бога, назови ты его как-нибудь!), вместе с Каннингемом, сержантом и писарем в одном лице, отвел меня вниз, в камеру.