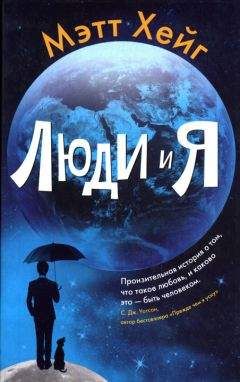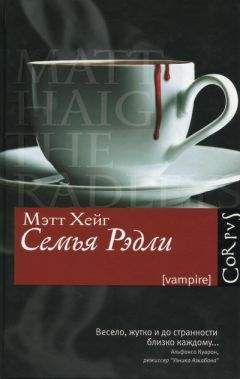И нож вошел глубоко.
От этого рева и от этого зрелища комната перестала плыть перед глазами. Я сумел подняться на ноги, прежде чем палец Джонатана дотянулся до второго радио. Я отдернул его назад за волосы. Я увидел его лицо. Боль ясно проявлялась на нем, как это бывает лишь на человеческих лицах. Глаза смотрели ошарашенно, с мольбой. Рот как будто плавился.
Плавился. Плавился. Плавился.
Самое тяжкое преступление
Я не хотел больше смотреть ему в лицо. Он не мог умереть, пока обладал внутренними дарами. Я потащил его к печи AGA.
— Поднимай, — приказал я Гулливеру. — Поднимай крышку.
— Крышку?
— С конфорки.
Он поднял стальной колпак и отвел его назад, не выразив ни капли удивления.
— Помоги мне, — сказал я. — Он сопротивляется. Надо обезвредить его руку.
Вместе нам хватило сил, чтобы прижать его ладонь к раскаленному металлу. Пока мы держали его, он исходил душераздирающими воплями. Я понимал, что делаю, но в этих воплях я слышал конец мироздания.
Я совершал самое тяжкое преступление. Уничтожал дары и убивал своего собрата.
— Нужно держать, — кричал я Гулливеру. — Нужно держать! Держи! Держи! Держи!
Потом я переключил внимание на Джонатана.
— Скажи им, что все кончено, — прошептал я. — Скажи, что ты выполнил миссию. Скажи, что с дарами возникла проблема и ты не сможешь вернуться. Скажи им, и я прекращу боль.
Я лгал. С расчетом на то, что они настроены на него, а не на меня. Ложь поневоле. Джонатан сказал кураторам, но его боль не прекратилась.
Сколько мы так простояли? Секунды? Минуты? Как в парадоксе Эйнштейна. Горячая плита против хорошенькой девушки. Под конец Джонатан сполз на колени и стал терять сознание.
Слезы катились у меня по лицу, когда я наконец убрал с печи ту липкую массу, что осталась от его руки. Я проверил пульс. Джонатана не стало. Нож пронзил ему грудь снизу, когда он упал на спину. Я посмотрел на руку, потом в лицо. Оно было чистым. Джонатана отсоединили не только от кураторов, но и от жизни.
Чистым его лицо было потому, что он обретал свою истинную внешность — началась клеточная реконфигурация, которая автоматически запускается после смерти. Весь его облик менялся, выравнивался. Лицо сплющивалось, череп становился легче, кожа покрывалась переливами пурпурного и фиолетового. Только нож в спине не исчезал. Странно. В контексте этой земной кухни существо, устроенное в точности как я когда-то, казалось мне совершенно чуждым.
Монстром. Тварью. Не мной.
Гулливер смотрел во все глаза, но молчал. Шок был настолько сильным, что трудно было дышать, не то что говорить.
Я тоже молчал, но из более практических соображений. Если честно, я волновался, что и так сказал слишком много. Возможно, кураторы слышали все, что я говорил на кухне. Я не знал. Но я точно знал, что сделал еще не все.
Твои силы они забрали, а свои оставили.
Но прежде чем я сошел с места, у дома остановилась машина. Изабель вернулась домой.
— Гулливер, это твоя мама. Не пускай ее сюда. Предупреди ее.
Он вышел из комнаты. Я вернулся к жару конфорки и положил ладонь на то же место, куда прижимал руку Джонатана и где еще шипели остатки его плоти. Я прижал ладонь к раскаленному металлу и ощутил чистую, всеобъемлющую боль, которая затмила пространство, время и чувство вины.
Цивилизованная жизнь, как вам известно, основана на огромном количестве иллюзий, которым все мы охотно подыгрываем. Беда в том, что мы со временем забываем, что это иллюзии, и когда к нам прорывается правда, нас это глубоко потрясает.
Дж. Г. Баллард
Что такое реальность?
Объективная истина? Коллективная иллюзия? Мнение большинства? Продукт исторического понимания? Сон? Сон. Да, может быть. Но если это сон, я от него еще не очнулся.
Когда люди начинают копать вглубь — будь то искусственно разграниченные области квантовой физики, биологии, нейрологии, математики или любви, — они подбираются все ближе и ближе к абсурду, иррациональности и анархии. Все, что они знают, опровергается снова и снова. Земля не плоская; пиявки не представляют ценности для медицины; Бога нет; прогресс — это миф; у них есть лишь настоящее.
И это происходит не только в глобальных масштабах. А с каждым отдельным человеком.
В каждой жизни наступает такой момент. Кризис. Ты осознаёшь: то, во что ты веришь, ложно. Такое бывает со всеми, но различие заключаются в силе воздействия этого открытия. В большинстве случаев люди просто отмахиваются от него и делают вид, что все в порядке. Так они стареют. В конечном счете именно от этого морщатся их лица, горбятся спины, усыхают рты и амбиции. Под весом этого отрицания. Под его давлением. В этом люди не уникальны. Самое храброе и безумное, что может сделать любое существо, — это измениться.
Я был чем-то. А теперь стал чем-то иным.
Я всегда был чудовищем, а теперь стал другим чудовищем. Оно умрет и будет чувствовать боль, но все-таки проживет жизнь и, возможно, даже найдет счастье. Ибо счастье теперь для меня возможно. Оно по другую сторону боли.
Лицо, потрясенное, как луна
Гулливер был юн и принимал все легче матери. Он давно не видел смысла в своей жизни, а потому окончательное доказательство ее бессмысленности даже принесло ему облегчение. Он потерял отца и совершил убийство, но существо, принявшее смерть от его рук, было ему чуждо, как будто не имело к нему отношения. Гулливер мог оплакивать мертвую собаку, но мертвый воннадорианин не вызывал у него сочувствия. Что касается горя, Гулливер действительно волновался об отце и хотел знать, было ли тому больно. Я сказал, что не было. Правда ли это? Не знаю. Я понял, что человек без лжи не человек. Просто важно знать, какую ложь говорить и когда. Любить кого-то означает постоянно врать любимому. Но я ни разу не видел, чтобы Гулливер плакал об отце. Не знаю почему. Возможно, трудно пережить потерю человека, которого, по сути, никогда не было рядом.
Так или иначе, когда стемнело, Гулливер помог мне вытащить тело из дома. Ньютон уже не спал. Он проснулся после того, как расплавилась техника Джонатана. И теперь он принимал то, что видит, как собаки, похоже, принимают всё. Среди них нет историков, и это упрощает дело. Для них нет ничего неожиданного. В какой-то момент пес начал рыть землю, как будто старался помочь нам. Но в этом не было нужды. Копать могилу было необязательно, потому что монстр — именно так я называл его про себя — в своем естественном состоянии быстро разлагался в насыщенной кислородом атмосфере. А вот выволочь его во двор оказалось нелегко, особенно учитывая мою обожженную руку и тот факт, что Гулливеру пришлось отбежать в сторону, потому что его начало рвать. Он ужасно выглядел. Помню, как он смотрел на меня из-под челки. Его лицо выглядело потрясенным, как луна.
Ньютон был не единственным свидетелем.
За нами недоуменно наблюдала Изабель. Я не хотел, чтобы она выходила из дома и смотрела, но она не послушалась. На тот момент она не знала всего. Не знала она, например, что ее муж умер и что труп, который я тащу, выглядит в целом так же, как раньше выглядел я.
Правда открывалась ей медленно, но и это было слишком быстро. Ей требовалась пара-тройка столетий, чтобы усвоить эти факты, а может, и больше. Это все равно как взять человека из Англии эпохи Регентства и перенести в центр Токио образца двадцать первого века. Изабель просто не могла воспринимать происходящее адекватно. Как-никак она историк. Ученый, который ищет схемы, сценарии и причины и преобразует прошлое в рассказ, который следует по одной извилистой тропе. Но вдруг на эту тропу с неба с огромной силой обрушивается объект, вспоровший грунт, пошатнувший всю Землю и сделавший маршрут непроходимым.
Иначе говоря, Изабель пошла к врачу и попросила выписать ей лекарство. Таблетки, однако, не помогли, и она три недели пролежала в постели в полном упадке сил. Предполагали, что это миалгический энцефаломиелит. Разумеется, никакой болезни у нее не было. Она страдала от горя. Она оплакивала не только потерю мужа, но и потерю привычной реальности.
В тот период она меня ненавидела. Я все ей объяснил: не я это придумал, меня послали против моей воли с единственным заданием: затормозить прогресс человечества ради блага Вселенной. Но она не могла смотреть на меня, потому что не знала, на что смотрит. Ведь я лгал ей. Спал с ней. Позволял ей ухаживать за мной. А она не знала, с кем спала. Не имело значения, что я влюбился в нее и что этот акт абсолютного неповиновения спас от смерти ее и Гулливера. Нет. Это не имело никакого значения.
Для нее я был убийцей. И чужаком.
Моя рука медленно заживала. Я сходил в больницу, и мне дали прозрачную перчатку, наполненную антисептическим кремом. В больнице меня спросили, как это случилось, и я ответил, что был пьян и оперся о конфорку, не воспринимая боль, а потом уже было слишком поздно. Ожоги превратились в волдыри, и медсестра вскрывала их, а я с интересом наблюдал, как из пузырьков течет прозрачная жидкость.