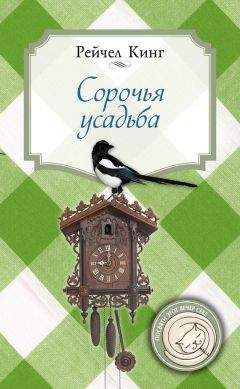Они остаются в городе, ходят в театр и на скачки. Энергия бьет в ней ключом, каждую ночь они предаются любви с таким самозабвением, словно у них эта ночь последняя. Она снова хочет ехать к Макдональду, ей не терпится еще раз услышать пение электрической иголки на своей коже, но Генри говорит: в другой раз, он должен вернуться на ферму, проверить, как идут дела; они отправятся через месяц.
Целый месяц. Экипаж с грохотом мчится в сторону имения; Дора кладет руку на живот, прикидывая его объем и размышляя о том, когда нельзя уже будет скрывать эту новую, растущую в ней жизнь. Генри отчего-то в дурном настроении, это случается с ним в последнее время все чаще. Говорит, что с ней это никак не связано, просто с утра чувствует на душе какой-то мрак и ничего не может с этим поделать. Но он явно не хочет на нее смотреть, и ее преследует чувство, что она ему противна. Неужели он догадывается о ее положении и злится на нее? Она понимает, что он уже устал от домашней жизни и страстно желает снова отправиться в путешествие, в горы или на Северный остров, на поиски новых сокровищ. А может быть, он устал от нее и хочет вообще покинуть эту страну, вернуться в Англию и его здесь удерживают только обязательства перед фермой?
Подъезжая к Сорочьей усадьбе, она чувствует, что жизненные силы, которые ей подарила тушь, иссякают. Она любит этот дом, ведь Генри восстановил его для нее, но он такой большой и такой холодный. Наверное, вот в таких домах должны водиться привидения, да, они любят подобные дома, а может, просто там заблудились и плутают в бесконечных закоулках и потайных комнатах, не в силах найти выход в мир иной.
Генри с утра до вечера пропадает на ферме, и она целиком посвящает себя домашним делам. Управляющий слегка даже напуган ее рвением, но терпеливо выслушивает ее бесконечные вопросы о расходах на еду и дрова, на челядь, об усердии слуг и садовников. Дора понимает, что занимается этим только потому, чтобы меньше думать — мрак на душе, о котором говорит Генри, проникает и к ней в душу, словно дом влияет на них обоих.
Однажды утром она просыпается довольно поздно; в апреле солнце встает уже не так рано, и листья на деревьях начинают желтеть. Генри еще спит, обнимая ее во сне и прижавшись к ней всем телом, и ей приятно ощущать его тепло.
Он открывает глаза и бормочет ей в ухо что-то неразборчивое.
— Доброе утро, — повторяет он более отчетливо и, сладко потягиваясь, отпускает ее.
— Что ты сегодня делаешь? — спрашивает она.
— Встречаюсь с управляющим, но это совсем не долго. А потом я в твоем распоряжении. Хочешь, устроим пикник на берегу реки, если погода будет хорошая?
Дора с сомнением смотрит на занавески.
— А ты не слышал, как ночью по крыше стучал дождь? — спрашивает она. — Да что там, тебя и землетрясением не разбудишь.
В полумраке она едва разбирает цифры и стрелки на часах: десять минут восьмого, а еще так темно, сквозь щели в шторах едва сочится какая-то серость. Она выскальзывает из постели, подходит к окну и слегка раздвигает их.
Дождь все еще идет, глухой и безнадежный. Зарядил, думает она. Если открыть окно, станет слышно, как шумит река.
— В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит из дома.
Она шире раздвигает шторы и поворачивается к нему.
— Ну, что ж, дела есть дела, — говорит он. — Надо кое-что закончить на ферме. А потом давай устроим себе что-нибудь приятное, Дора. Можно в город съездить, если хочешь. Даже договориться о какой-нибудь экспедиции. Если ты не против.
— Я, против?
Она смеется и бросается к нему на кровать.
— Да вы просто осчастливили меня, мистер Саммерс.
Но когда Генри, позавтракав, уезжает, к ней снова возвращаются слабость и тошнота. Горничная, кажется, слишком туго затягивает на ней корсет, Дора беспокоится, не раздавит ли он ребенка, и приказывает ослабить шнуровку. Пупок торчит больше обычного — неужели Генри обратил внимание? С недавнего времени она раздевается в темноте, а то, что не видят его глаза, руки не чувствуют.
Ну как в таком состоянии путешествовать, подвергаться опасностям?
Она отправляется в комнату, расположенную в нижней части башни, где хранится коллекция Генри. Здесь она дышит воздухом дальних стран — Африки, Южной Америки, Индии, Японии, южных островов Тихого океана. Комната постепенно наполняется, вещи сдвигают теснее, нужно место для костей птицы моа, для новых насекомых, для искусно набитых ее мужем птичьих чучел. Они смотрят на нее: сидящие на тоненьких веточках большие зеленые попугаи с крепкими и острыми когтями, изысканными веерообразными хвостиками, сорока, вытаращившая на нее свои глазки, совсем как живая, как и те, что прогуливаются вокруг дома и строят гнезда в дымовых трубах.
Она всматривается сквозь стекло шкафа, разглядывая плавающих в жидкости змей; а это что там такое… неужели? Да это же двухголовый котенок, словно висящий в луче света. От неожиданности она делает шаг назад. Она и не догадывалась, что Генри настолько психически нездоров… но ведь это просто диковинка, такая же, как и более экзотичные, хотя и одноголовые создания. Интересно, почему она не замечала его прежде? Не отдавая себе в этом отчета, Дора снова подходит ближе, чтобы рассмотреть внимательней. Она ничего не имела против, когда Генри отговаривал ее заглядывать сюда, ей было достаточно смотреть на яркие хохолки птичек, на злые глаза млекопитающих, на сверкающие крылышки насекомых за стеклом, повешенных в рамках на стену. Банки же эти незаметны, ничем не выделяются. Их содержимое бледно, и только вглядываясь, начинаешь различать формы. Человеческая рука. Сердце ее бьется все сильнее. Как это отвратительно! Похожа на руку пугала, вырезанную из репы.
Она пробует открыть дверцу шкафа, ожидая, что он заперт на замок, но она легко открывается. Она отодвигает банку с человеческой рукой в сторону, шарит позади нее и вытаскивает первую, к которой прикасается.
— О, господи, — произносит она вслух.
Руки ее начинают дрожать, когда она видит то, что она сначала приняла за морскую актинию; в свете лампы оно медленно поворачивается перед ней внутри банки. Это человеческий детеныш. Только он очень мал, и ей становится ясно, что это еще не родившийся ребенок. Голова его по сравнению с тощим тельцем непропорционально велика, глаза огромны, под кожей густая сетка кровеносных сосудов.
Внутри ее тоже что-то шевелится: уж не просится ли уже на свет божий зародившаяся в ней жизнь… или это ее внутренности переворачиваются при виде утробного плода.
Но это еще не все, она чувствует, это далеко не все. Она вытаскивает еще одну банку, видит в ней крохотную ножку ребенка и не может сдержать слез; ей очень жалко и этого ребенка, и его мать. И себя тоже жалко. Руки ее тянутся к полкам независимо от ее воли, отодвигая в сторону угрей и прочих заспиртованных животных, пока в самом конце шкафа не натыкаются на банку, откуда на нее смотрит чье-то лицо… это лицо ребенка. Она осторожно, держа двумя руками, извлекает ее и видит на этикетке одно слово: «Оспа». В банке плавает отделенное от головы студенистое рябое лицо, маска с дырами вместо глаз. Бывшее лицо ребенка. Это уже не какая-нибудь диковинка, предмет страстных желаний заполучить его в свою коллекцию, чтобы потом любоваться. Это было когда-то маленьким ребенком.
Банка выскальзывает у нее из рук и вдребезги разбивается о пол. Жидкость заливает ей платье, ноги, и детское личико шлепается на пол, как мертвая рыбина. Ей кажется, что она собственной кожей ощущает его холодную плоть.
Дора кричит, отшвыривает его ногой и отскакивает в дальний угол комнаты. Так вот почему он не хочет детей. Вот что происходит с ними, когда они заболевают или умирают, — они становятся трофеями подобного шкафа. Надо сделать все, чтобы защитить ребенка, которого она носит в себе, а это значит, она должна оставаться дома и делать все, чтобы уберечь его от любой опасности. К черту Генри и его дикие приключения. Она опускается на пол, кладет голову на колени и рыдает.
Всего через несколько минут в таком положении ее находит Генри.
Он бежит к ней, но под ногами его хрустит стекло, и он застывает на месте как вкопанный.
— Что это? Что тут случилось?
Он опускается на корточки и смотрит на детское личико, лежащее на полу, на лужу и стеклянные осколки.
— Это отвратительно! — кричит она. — Как тебе пришло в голову хранить у себя такое?
Она ждет, что он подойдет к ней, обнимет, успокоит. Но он молча выпрямляется, оставаясь на месте.
— Не болтай глупостей. Ты что, думаешь, это я убил его? Это просто медицинский экспонат, ничего больше.
— Но где ты его взял?
— В больнице.
Он смотрит на шкаф и видит, что порядок в нем полностью нарушен.
— А-а, вижу, ты нашла и другие мои образцы. Все они получены мной в больнице. Их должны были сжечь.