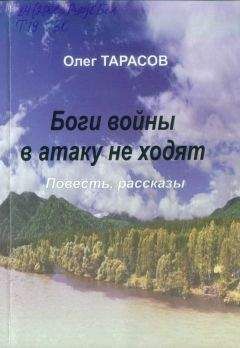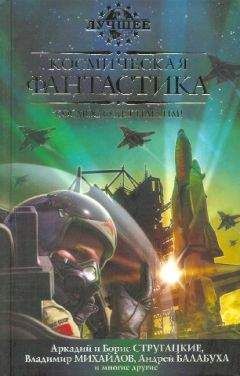Пиманыч любил наблюдать, как строила та кошачью братию, и одобрительно кивал: «Верно, Лизка, верно! Мешки с помётом. Пусть знают, почём фунт лиха!» Частенько гладил он бестию — с любовью, от души, она отвечала тем же — тёрлась об ноги, заглядывала преданно в хозяйские глаза.
Но сейчас, как ни питает Пиманыч симпатию к Лизке, держит равное ко всем отношение. И третий день молочной диеты кошки прилипчиво таскаются за хозяином, мяукают цыганским хором — то просительно-проникновенным, то настойчиво-гневным. «На зубок что-нибудь перепадёт в конце концов?! — вопрошают они круглыми, готовыми разразиться слезой негодования глазами. — Мяска или рыбки?»
А Пиманыч, полный равнодушия, садится сгорбленно на ступеньку, дымит себе папиросой. «Мясо там бродит!» — и большим пальцем указывает на коровник. Кошки прикидываются, что человеческий язык для них инопланетная тарабарщина, и даже не смотрят в сторону крысиного оплота.
— Тогда шиш вам, язвы!
С причитаниями о тяжкой доле несчастные кидаются к хозяйке — угрюмой и носатой, но та только с удовольствием выговаривает: «Может, со двора сгинете, приблуды окаянные!» Как ни странно, приблуды сердечное хозяйкино пожелание понимают верно и перед носатой Пиманихой больше ни о чём не заикаются.
И хоть вылизывают животины миску с молоком до блеска, худоба в гости появляется тут как тут. Нужда не сыр с маслом, и кошки приспосабливаются к горю на свой лад. Пиманыч лишь раскрывает рот, глядючи, как Швед ловит бабочку и с удовольствием ею хрустит. «Эге! Ты у нас не Швед, ты — француз чистый! — удивлённо восклицает старик. — Бабочек, стрекоз да устриц морде твоей заграничной подавай!»
Полубольной Симон обретает в характере живинку, прежде в нём невообразимую: побойчее зыркает редкого цвета глазами и лапами двигает шустрее прежнего. Васька, подлец, остаётся сам себе на уме — недовольно виляет драным хвостом и исчезает с голодного двора на весь день.
Полностью кошачье царство собирается только к молочной миске, которую Пиманыч специально ставит перед входом в коровник — цитадели, которую надлежит очистить от неприятеля. Очень ясный намёк коты дружно игнорируют — в спешке и суете лакают молоко, подаются прочь. Пиманыч гневно смотрит на задранные, трясущиеся хвосты, полные гордого к нему презрения, ворчит:
— Потребители! Зорька вас кормит — в коровник хоть бы кто сунулся, хоть бы кто в благодарность крысу придавил! Не-ет! Они по лежакам! Они за бабочками!
Хозяйский призыв ничего не меняет — хвосты так и маячат гордыми флагами. «Я не я, и хата не моя! Да?» — с обидой кричит старик вслед бродяге Ваське, что после молочной трапезы невозмутимо прыгает на забор, на баню — да и прочь!
Среди полного равнодушия котов лучик света всё же вспыхивает — Лизка уходит в коровник, в засаду. Пристраивается молча, без выкрутасов, но зоркий Пиманыч манёвр самки примечает, радостно ухмыляется: «Двинется дело!»
Любимица не подводит: ранним утром на крыльце валяется дохлая крыса с оскаленными мерзкими зубами, длинным хвостом — к хозяйскому удивлению, немаленькая. Кошка стережёт трофей и заглядывает старику в глаза: «Не этого ли ты хотел, душа моя?» Ответ Лизка знает и заранее сияет радостью — охота открыта удачно.
— Ах ты ж, Лизочка! — воркует с нежностью Пиманыч, суетливо шаркает калошами и туг же, в благодарность, тащит вчерашний остаток жареной рыбы. Коты от подарка атаманше исходят слюной, таращат недоумённые глаза, взывают о справедливости ко всем известным кошачьим богам.
— Учитесь, твари! — хозяин тычет в дохлую крысу, — вот, ловите!
Проходит ещё неделя. Продовольственный горизонт беспомощных самцов за молочную миску особо не раздвигается. Лизка же запросто, как здрасьте, выкладывает на порог дома целых пять крыс. Швед и Симон пялятся на её жертвы, словно на чудо, издалека, зато, когда Пиманыч чешет удачливую охотницу промеж ушей и кормит мясом, подскакивают и чуть не плачут от зависти и возмущения.
— По справедливости! — отвечает Пиманыч и специально, на весь двор, втолковывает: — Толку-то с вас до конца жизни не будет! Смотри, Лизка, не заваргань от них потомство! Балабоки одни выйдут!
Лизка понимает хозяина, она с блаженством закатывает от чесаний глаза, кивает головой, успокаивает: «Близко не подпущу!»
Несколько дней подряд крыльцо пусто. Лизка у выходящего поутру Пиманыча с чистой совестью просит поесть, вроде как сообщает: «Чем могла — помогла! Нету больше добычи!» Кошаки чуют благотворную перемену, оживлённо встречают Пиманыча, словно толкуют: «Когда ж поймёшь, что крысы все выловлены?!»
Ещё через день старик выносит еды всем. Насыпает в миску, куда единолично пристраивалась Лизка и куда троица уж подходить зареклась, куриных потрохов с макаронами, наполняет другую. На завтрак Лизка наваливается без раздумий, с аппетитом, кошаки же робко крадутся, опасаясь оплеух. Но Пиманыч сегодня милостив, тычет папиросой: «Подходи, балабоки, подходи!»
Балабоки, завидев по маршруту долгожданное спокойствие, наперегонки скачут к мясу — и предатель Васька, и перекованный во француза Швед, и даже беззащитный зимородок Симон. Из миски тут же раздаётся гневное, угрожающее друг другу урчание.
Голодовка кончилась.
Уютный тихий коридор с ковровой дорожкой заканчивался дверью, красиво обитой чёрным дерматином. Сияющая позолотой табличка извещала, что начальник Н-ского танкового училища генерал Шатабин Николай Ефимович приём по личным вопросам проводит два раза в месяц: в первый и третий четверг. Так уж заведено у всех начальников: как высоко ни взлетай, а будь добр, найди время простого человека выслушать, в земные проблемы вникнуть.
Генерал Шатабин, с прилежно зачёсанными назад редкими седыми волосами и старый даже для своего солидного звания, привык ко всяким посетителям. Чего только не просили здесь за десять лет: и принять в училище единственного сына, и выдать квартиру многодетному офицеру, и простить провинившегося курсанта — всего не перечислить. В этом кабинете, как в хорошем театре: умоляли, пускали слезу, рыдали, радовались и благодарили. Генерала призывали в свидетели и судьи, в помощники и палачи, в миротворцы и обвинители; словом, не было на свете такой просьбы, которую бы Николай Ефимович не выслушал.
Все эти годы на кабинетные действа торжественно, но безмолвно взирал сам Брежнев, облачённый в роскошный маршальский мундир. Портрет генсека пристроился высоко за спиной начальника училища, и просителям казалось, что дорогой Леонид Ильич тоже внимательно их слушает. Как бы там ни было, проблемы Шатабину всё равно приходилось решать в одиночку, и он частенько думал, что генерал и волшебник в понятии людей одно и то же.
С торжественными ударами напольных золочёных часов, маленькая стрелка которых сравнялась с цифрой четыре, в дверь робко постучал первый ходок, и на пороге появилась молоденькая стройная девушка: рыжеволосая, с россыпью больших и маленьких веснушек на щеках. Одета она была в крепдешиновое кремовое платье и издали показалась хозяину кабинета симпатичной.
«Прошу вас!» — генерал радушно показал на тёмный дубовый стул с высокой спинкой. Девушка прошла и скромно присела на краешек. Генерал обратился в слух, но молодая особа неловко теребила тоненький ремешок своей сумочки и молчала, боясь поднять взгляд.
— Как вас зовут? — спросил Шатабин, подбадривая девушку. Он уже привык, что перед генералами почему-то робеют — и совсем, надо сказать, зря: генералы самые обычные люди.
— Валя, — сказала девушка и тут же поправилась — Валентина.
— Ну, Валентина, что у вас за просьба? — мягко, по-отечески осведомился генерал.
Девушка виновато покраснела, затем полезла в сумочку, достала сложенный вчетверо листочек. Но она не передала его генералу, а оставила в руке и, наконец, произнесла:
— Ваш курсантик на мне жениться обещал… и не женится…
«Никак сваху из меня хотят сделать», — подумал Шатабин и вздохнул: немало его втягивали и в семейные неурядицы. В этом, однако, он видел большую странность: если два человека не могут друг друга понять — при чём тут генерал? Как будто любовь может быть по приказу.
— Значит, вы полагаете, к вашему жениху впору власть применять генеральскую? — спросил он.
— Впору, — согласилась девушка весьма суровым тоном. — Обещал замуж, а не берёт!
— Миленькая, зачем же вам такой муж, которого насильно под венец определят? — полюбопытствовал Шатабин.
— Он мне понравился… — вспыхнула просительница и, расплакавшись, добавила: — Он мою честь девичью взял!
Генерал опешил:
— Как взял?
— Вот так! Сказал, что ему до свадьбы надо знать, девушка ли я. Переспал и больше не появился! — залилась отчаянными слезами Валентина.