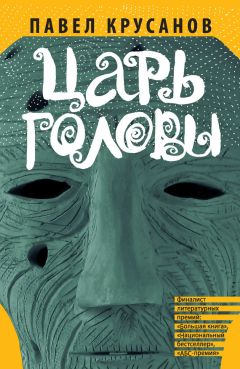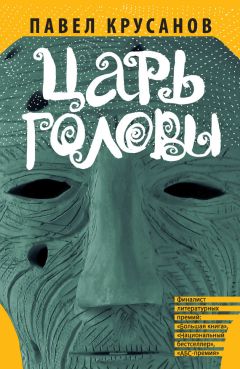Как добрался до дома – не помню. Дверь опять была не заперта. Едва живой, упал на диван и проспал несколько столетий.
Раскинувшийся за Карагандой мелкосопочник и придорожные россыпи жёлтых и алых тюльпанов немного оживили пейзаж. Говорят, маки и вовсе цветут здесь ковром. Но маки полыхнут недели через две, не раньше. Лошадей, против ожидания, было мало. Предосудительно для наследников тех, кого древние иранцы называли «туры с быстрыми конями», кто слыл хозяевами резвых скакунов и тучных стад, бескрайних пастбищ и добрых повозок… Туры и арии, согласно «Авесте», почитали одних и тех же богов и молили их о победе на одном языке. Так иранцы звали саков – туры, сиречь могучие мужи.
Степь как-то незаметно перешла в каменистую полупустыню, буро-чёрную (каменный загар), подёрнутую рванью неуверенной апрельской зелени. Перед Спасском чуть не угодила под колёса упорная в своём желании расплющиться черепаха. (Кто её гонит? Или тоже бежит от воспоминаний?) Возле небольшого, в дюжину голов, стада бактрианов съехали на обочину, и начальник экспедиции велел любоваться. Три минуты щёлкали затворами фотоаппаратов, справляли малую нужду, курили, разглядывали эфемеры – тюльпаны на коротких стебельках с волнистыми остроконечными лепестками и разложивший на земле жирные листья ревень. Энтомологи и арахнологи ворочали камни, вожделея добычи. Бактрианов наша суета не занимала.
Цель транспортных технологий – вынести за скобки пространство, умалить его величие, подчинить простор скорости. Цель казахской дорожной полиции – обернуть достижения транспортных технологий пользой к своему карману. В общей сложности отдали пузатым дорожным «турам» девятнадцать тысяч тенге, но до Балхаша так и не доехали.
Дело шло к закату, когда, свернув влево на примыкающую дорогу с разбитым асфальтом, а потом на грунтовку, добрались до подошвы Бектау-Аты и поставили лагерь у ручья, обросшего на выходе из ущелья небольшой рощицей каких-то местных ив и густым кустарником, – сибиряки не первый раз выезжали в Казахстан, знали здешние места. Ручей скакал по огромным каменным плитам-блинам, разливаясь вширь по сырому, пахнущему диким луком лугу, а сами здешние горы, с которых за миллионы лет язык вечности слизал все острые углы, походили на сложенные в стопку гигантские оладьи. Здесь чувствовалось время. Оно грузно лежало на помеченных пятнами красного лишайника покатых глыбах и выглядело куда древнее, чем время, распластанное на Алтае. Тут я увидел пастбищных клещей – твари эти ползли из кустов на тенты палаток, голодные, резвые и как будто весёлые, точно молодые волки.
Назавтра были бирюзовый Балхаш с пеликанами в прибрежных тростниках, железная дорога, тянущаяся вдоль трассы, ветхие будки, где озёрные казахи продавали вяленую рыбу, безоблачное небо с расплавленным солнцем и солончаки, над которыми ветер крутил белые соляные вихри. Угодишь в такой, горькая пыль съест глаза, сожжёт гортань – узнаешь, каково быть воблой.
Перед Балхашем, в одноимённом городке, где нас в очередной раз обул дорожный патруль (преступное пересечение отсутствующей на дороге разметки), пополнили запас провизии и купили ящик казахской водки «Хаома». Поскольку начальник экспедиции пересел в китайский внедорожник, где фукал свежей струйкой спасительный кондиционер, оставшиеся в «газели» без надзора биологи решили снять пробу. Водка понравилась. Про хаому научные работники слыхали, но почему в статус сакрального напитка, побеждающего смерть, возвели казахскую водку, им было непонятно. Я рассказал. По персидским источникам, сакские племена делились на четыре ветви: саки-парадарайя, или заречные саки, саки-аримаспы, стерегущие золото грифов, саки-тиграхауда, носящие высокие колпаки, и саки-хаомоварга, то есть готовящие хаому. Когда независимый Казахстан национализировал историю, хаому тоже пристроили к делу.
Следующий лагерь разбили на южном берегу Балхаша. Начальник экспедиции посчитал, что так выйдет дешевле – спешить уже не позволял пощипанный казахской полицией бюджет. Кругом – россыпи камней с редкими пучками растительности и бурые скалы. Воодушевлённые «Хаомой», пассажиры «газели» ринулись было купаться, но на берегу одумались, и в волну нырнули только два зиновца и я – петербургский десант. Вода обжигала, но не насмерть – градусов двенадцать. Всё-таки апрель, на севере Балхаша, должно быть, ещё кочуют льдины.
Начальник великодушно не замечал дисциплинарных нарушений – выбравшись из машины, он тут же изловил какую-то чрезвычайную муху. Да и у англичан случилась радость: на последней заправке они добыли навозника, которого – представить только! – не было в фондах знаменитой коллекции их славного университета. Судя по восторгам, этот экземпляр уже оправдывал для островитян всю поездку.
Утром сворачивали лагерь без спешки – до национального парка Алтын-Эмель оставался один рывок. Километров четыреста. Или чуть больше. Пустяки по отечественным меркам. И всё же… Марина догоняла меня. Тень её сжимала моё сердце так, что кровь в нём замирала. Что говорить про ночь – суккубы сохли, подглядывая мои сны, так там было жарко. Вероятно, я бежал от воспоминаний слишком медленно, как та черепаха под Спасском, – настигнутая прошлым, она решила: лучше казнь под колёсами…
В Куртах повернули с алма-атинской трассы на Капчагай. Когда в начале семидесятых тут, в Капчагае, возвели плотину ГЭС, разлившаяся Или затопила не только прибрежные посёлки, но и уйму могильников времён саков и усуней, далеко не все из которых успели отработать специалисты. Зато теперь здесь открылись возможности для подводной археологии.Потом был городок Сары-Озек, за ним – прохладный горный перевал с серпантином и, наконец, заповедный край – природный парк Алтын-Эмель, клин объятой солнцем земли, зажатой между Джунгарским и Заилийским Алатау. Один прикрывал от холодильной установки севера, другой – от печки юга. О том, что мы в заветных землях, нас известил раскрашенный железный щит, выцветший, но убедительный благодаря сидящему на нём и выкатившему на нас тёмный глаз живому грифу. Гриф был огромен, глаз – лют.
* * *
Облако за окном глотает луну. Проглотило. Небо черно. Понемногу левый край облака начинает высветляться, обозначая своё небесное движение. Край серебрится, наливается светом. Скоро луна выскользнет из облака, как мыло из руки.
В ординаторской – двое. Мужчина и женщина. В ординаторской по-домашнему пахнет чаем с молоком, хотя чай здесь не пьют. Доктор – старых правил: есть место для работы и есть место для самовара.
– Как это? – удивляется сестра. – Он есть, а самого себя у него нет? Ничего не помнит?
– Помнит, – говорит доктор. – И даже много. Всё. Но – вот фокус – он личный опыт не отличает от… заёмного. Он весь его присвоил. Песню такую слышали? «Всё, что было не со мной, помню». Это про него. Всё когда-то прочитанное, услышанное, увиденное всплывает у него в сознании фрагментами и складывается в разнообразные конфигурации. Образуется форма ложной памяти. В зависимости от того, как сложились части, выстраивается фантомная личность. Каково?
– Бедняга, – говорит сестра. – Чего только не бывает…
– О-о! – говорит доктор. – То, что творится в человеческом сознании, порой куда причудливей того, что явлено нам в мире данностей.
Лампа. Стол. Двое. Чёрное окно. Край луны выглядывает из-за облака, как соглядатай из-за шторы.
* * *
Случается, я думаю о чём-то и вдруг понимаю, что этогоможет не быть. То есть мысли мои ничего не значат, ничего не могут, никого ни к чему не обязывают. И уж конечно мир – вовсе не моё о нём представление. Не потому, что он – представление кого-то другого, какой-нибудь Инессы Владимировны с первого этажа, а потому, что он вообще не представление. Он есть, есть всегда – чужой, огромный и равнодушный, и ему безразлично моё присутствие. Меня для него нет даже тогда, когда я, блоха ничтожная, на своём присутствии настаиваю. И я не в состоянии решить: тварь я дрожащая или тут просто холодно? Это свобода или катастрофа? То есть исподволь понятно, что катастрофа, но разум не в силах эту катастрофу признать, потому что включается глушилка, подавляющая процесс внятного самоотчёта, и одновременно внутри головы оживает механизм соблазна, внушающий: твои мысли не имеют силы увлекать и повелевать, потому что ты сам не хочешь этого, потому что ты свободен – ни у кого не идёшь на поводу и никого не тянешь на аркане сам. Чушь, конечно, пусть и спасительная. Типа: посылают за пивом, значит, доверяют. Я иду на поводу. Больше того: меня тащат за волосы. Потому что, если ты не желаешь увлекать и повелевать, ты – тварь, букашка и с правами у тебя проблемы. Так что всякий, у кого пра́ва – какого-то абстрактного права, возможно, со стороны не заметного даже – есть хоть на мизинец, волен тебя пнуть и ухватить за гриву. И то, что я это отчасти сознаю, свидетельствует – болезнь отступает.