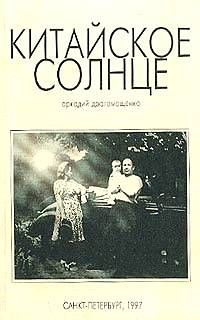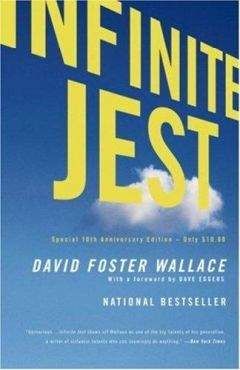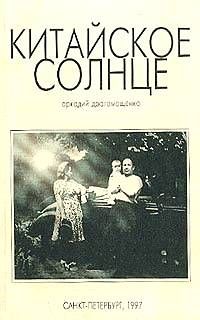Но означает ли высказывание "все неправильно" обыденное тщание переступить образованную усилиями присвоить дающееся мне повсеместно форму, выступить за ее пределы, полагаемые ее же желанием артикуляции, вписывания, извлечения за пределы самого действия, сотканного из очередности мнимых причин, возможных следствий в не прекращающем себя переделе мира?
Сделав еще один мысленный шаг, вероятно принять очевидное: фраза, находящаяся сейчас в центре внимания, в поле этого же внимании возвращает себе качества, которые мы не без основания полагаем во всем окружающем, i.e. фраза становится вещью, и, продолжая дальше: становясь таковой, она, как и всякая вещь, становится становлением собственного конца, а, входя в резонанс с моей "конечностью", пробуждает в чувствах, рассудке образ совершенно противоположный по значимости — образ невидимости и абсолютной протяженности. Но и это неправильно.
Поскольку, и я это знаю, поводом рассуждения об этой фразе послужили насколько вещей. Усталость, вызванная хроническим безденежьем, количество выкуренных с раннего утра сигарет, плохой кофе и неотступное воспоминание о глупости, с которой, невзирая на изощренные усилия и хитроумие, доводится встречаться едва ли не всюду.
И тогда я пришла к выводу, что мне хочется видеть только собственный взгляд, рассматривающий меня. Вот почему мне нужен был ты (как любому другому — другой, "ты").
Но именно это место, а я это великолепно понимаю, является наиболее зыбким звеном любого возможного объяснения того, чего я хочу. Но в ближайшие дни все будет по-другому. Да, конечно, согласен. В ближайшие дни. Они вскоре наступят, эти другие дни и луны. Другие дни, луны, люди. Вне людей находится еще больше людей.
Разветвления ночи в такую же множественность возможностей, ограничений и переходов.
Я мог бы назвать ночью и тебя, так как ты, подобно многому либо всему, просуществовав кратчайшее мгновение как равная себе и слову ночь, возвращающемуся в ту ночь, которую уже ни рука, ни зрение, ни память, ни даже ты, ее впитавшая, собравшая, подобно тяжкой пчеле, не в силах превозмочь в плачевном усилии знания, но далее, кажется, тень перекрывает тень, и света становится слишком много, и он чрезмерно резок для того, чтобы проследовать за возможностью отличить одно от другого.
Разные люди… уверен, что все это разные люди, думает мимоходом Диких, рассматривая любительский фотоснимок, на котором видны открытые стеклянные двери из небольшой комнаты, где стол и круглая стеклянная ваза с белыми цветами, а в дверях виднеется еще одна, просторная, плохо освещенная комната — отметим, что недостаток света придает ей глубину многословия, — и кто-то с нерешительным (задумчивым? сосредоточенным?) видом стоит у стола, опершись на него руками, как бы слушая иного, кто, скорей всего, находится поодаль, не попадая в кадр, но более всего привлекают внимание блики, бегущие по потолку, словно от стекол проезжающих внизу автомобилей, и негромкий монотонный шум вечерней улицы, — душно, жаркое лето на исходе, обычно об эту пору в городе никого не застать, на горизонте горит трава, а если кто и позвонит, то жди либо неприятностей, либо незваных гостей, что опять-таки трудно отнести к разряду приятного, а вот и другая сторона улицы, жизни, монеты, раскрытые окна, тюлевые занавески, разговоры, сливающиеся с уличным шумом, а дальше, справа Симеонова церква, лоснящийся рдеющим солнцем асфальт. Действительно, разные люди. Но в ближайшие дни все станет по-другому? У этого — одно имя, думает Диких, у того — другое, и еще несколько различных имен. Не много, впрочем, но на первое время достаточно, чтобы дождаться ближайших дней, а пока мелкими шагами можно исчерпывать расстояние до станции пригородного поезда, по ходу движения перечисляя четки предметов, которые, не совпадая со скоростью, образовываемой перестановкой ног, несутся навстречу и пропадают позади, за затылком, за спиной, в сорной станционной траве, в зарослях сизого, точно от инея, бересклета. Жест противления и далее движет предложение. Упомнить хотя бы их последнюю беседу об одиночестве, требовавшую невыносимого внимания к деталям. В кладовую можно было попасть из коридора. Из нее годами не выветривался запах подсолнечного масла. Однажды мы с сестрой видели, как в сумраке кладовой шевелится чья-то высокая тень. Войти в дом с ослепительного зноя. Вот что это значит. От тени исходило чавканье. Чудесная жуликоватая овчарка, воспитанная отцом, им выкормленная, собака… Она стояла на задних лапах, опираясь одной передней о полку, на которой находилась банка маринованной сельди, а другой лапой тащила рыбу.
Сквозь угольное ушко перечисления. В детстве незаконченность радовала.
Но в детстве мы не знали такого слова. Сетчатость.
Странно только, что заметить это удается не сразу. Обыкновенное физическое ощущение укромного совершенно изолированного знания.
Наблюдая строение страницы на безжалостном солнце, трудно было представить, что на бумаге может появиться какая-нибудь литера.
Не рекомендуется, нет, совершенно не рекомендуется затрагивать мои рассуждения. Какого они рода? Как возникают? Напоминают ли они голоса, или трубчатые кости неведомых музыкальных инструментов? Нужно собраться с мыслями — вопрос не прост.
Просьба заключалась в одном: не следует спрашивать. Тем не менее, возникающие вопросы складываются в некое подобие архитектурного взаимодействия.
У меня много чего было. Не было только желания это иметь. Я протянул руку за сигаретой, но взглянул на нее и вдруг понял, что все это время она меня совсем не слушала, а глаза, подернутые какой-то влагой, были пусты и бездонны, как тогда, когда мы оба исчезали в грязи коровника, обреченные ярости и памяти.
Но ее глаза все-таки встретили мой взгляд. Ее сухие, горячие пальцы коснулись моей щеки, после чего она резко поднялась, отошла к столу и поправила цветы в вазе. Не позднее было время. И так далее. С каждым случается. Пустой субботний вечер в летнем городе.
Я заметил, что узор на шелке ее платья слегка изменился. Кажется, я даже сказал ей о том, что в нем возникли какие-то другие линии, может быть, другие цвета, переплетения. Постояв у раскрытого окна, откуда несло жаром, она сказала, что, наверное, все, что я ей говорил, и в самом деле правда, и что не было никакой змеи, а была обыкновенная телефонная будка, и еще совпадение, и еще толпа, а кроме того — зной, мягкий асфальт и все такое, и что над этим стоит подумать, потому что времени у нее много, и если кому-нибудь рассказать, сказала она, сколько у нее времени, никто не поверит, да она сама в первую очередь не поверила бы, скажи ей кто о таком, а потом улыбнулась и подошла снова, но ты этому, сказала она, не придавай большого значения.
— Хорошо, если простая телефонная будка…
— Тут мне самой многое не ясно, — прервала она меня и вновь положила обе ладони на мой лоб, а я почувствовал, как они странно и быстро охладевают. И то сказать, вечер шел к концу.
— Потому что очень жарко, — сказала она. — А лоб у тебя горячий.
Возможно так и было. Но в качестве вещей возникло еще что-то. Например, мне показалось, что теперь я без труда могу смотреть сквозь ее руки.
— А что ты видишь? — спросила она, отстранясь, и как-то внезапно старея на глазах.
Я не ответил, так как знал, что ей неважно, что я ей скажу, потому что ей, вероятно, не важно и то, что ничего кроме десяти солнц видеть не получалось, хотя стань я об этом говорить, у меня бы ничего не вышло, потому что я видел десять солнц, медленно сходившихся в одно, и оно было не большим, но и не малым; не светлым, и не темным, и по мере того, как они друг к другу приближались, исчезая одно в другом, я видел, как меняется их свечение.
Из обыкновенного зеленого они превращались в огненно синие, лиловые пульсирующие лохмотья легчайшего пламени, которое, постепенно собираясь в форму единого кипящего диска, чернело, будто наливалось неисчислимой глубиной вторжения. Десять ее пальцев, десять солнц сошлись в один черный проем. Что было правильно.
Потому что я ощущал, как выхожу в эту дверь, как будто раздирая завесу из ртути, словно без труда добавляя слово к слову и никому нет дела, в каком месте кто и как появится на свет. Выйдет. Некоторые грамматические формы совершенны и прекрасны, как музыкальные инструменты. Стоит ли выпускать их из рук даже в воде? Вода — одна часть истории. Песок — другая. Поэтому.
Вероятно, все это время мои глаза были открыты. — те, что однажды были даны в долг, и возвращать которые, я знал, наступал час, хотя никакой боли, понятно, я не чувствовал, только жажду. Я так думаю потому, что беспечально проходя кипящие иероглифы орбит, я продолжал (а как долго?) видеть несколько оставшихся в поле зрения теней, стоявших надо мной точно в ожидании.
Но солнц больше не было. Чего там было еще ждать! Конечно, может быть, они отошли куда-нибудь влево или назад. Либо их закрыли облака или тени. Меня, впрочем, это нисколько не интересовало. Я хотел пить.