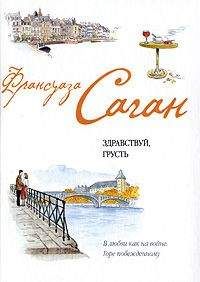Ален вытер губы и угасшим голосом спросил счет.
Рука Беатрис, потрепавшая его ладонь, нырнула в красную, точно такого же цвета, как туфли, перчатку. В десять часов, выпив виски в кафе напротив театра и поговорив о войне и послевоенном времени («Нынешняя молодежь, – говорила Беатрис, – не знает ни что такое кабачок в подвале, ни что такое джаз»), они расстались. Ален сдался уже час назад. С мрачноватой радостью он слушал, как Беатрис нанизывает одну банальность на другую, и время от времени, когда ему доставало на это смелости, любовался ею. Раз или два она даже принималась с ним кокетничать, просто потому, что чувствовала себя в отличной форме, но он этого не заметил. Когда мечтаешь о чем-то как об огромном несбыточном счастье, перестаешь замечать маленькие дорожки, по которым можно (и довольно быстро) до него дойти. Стендаля Ален Малиграсс читал куда внимательнее, чем Бальзака. И это ему дорого обошлось. Впрочем, ему дорого обошлось и все то, что он хорошо знал по книжкам, а именно: что можно любить то, что презираешь. Конечно, это спасло его от стресса, но и стресс мог оказаться полезным. Правда, в его возрасте страсть легко обходится без уважения. Но у него не было той счастливой уверенности, которая питала жизненные силы Жозе: «Этот молодой человек – мой».
Ален вернулся домой крадучись. Проведи он эти три часа с Беатрис в отеле, он вернулся бы победно-торжествующим, счастье ведь гасит укоры совести. А тут – Фанни он не изменял, а возвращался как виноватый. Она была уже в постели, в голубой ночной кофточке, в которой любила читать в кровати. Ален разделся в ванной, что-то пробормотав про свой деловой ужин. Он был совершенно разбит.
– Добрый вечер, Фанни.
Он наклонился к жене. Она привлекла его к себе. Лицо его оказалось на ее плече.
«Она, конечно же, догадалась, – подумал он устало. – Но не это тощее плечо мне нужно, а круглое и крепкое плечико Беатрис; ее опрокинутое и исступленное лицо, а не этот интеллигентный взгляд».
– Я очень несчастен, – сказал он громко, потом разделся и лег спать.
Глава 4
Он уезжал, Николь плакала, и все это можно было предвидеть заранее. По мере того как он укладывал вещи, ему стало казаться, что всю его жизнь вообще можно было предвидеть. Само собой разумелось, что он был хорош собой, что у него была беспокойная молодость, роман с Беатрис и очень долгий роман с литературой. Еще более естественно было жениться на этой молодой, не очень привлекательной женщине, которая сейчас страдала из-за него чуть ли не как животное, чего он совершенно не понимал. Потому что, в сущности, он был скотиной и, как самый заурядный человек, был способен и на жестокость, и на самые банальные любовные похождения. А ему надо было до конца играть роль сильного мужчины. И, обернувшись к Николь, он обнял ее.
– Не плачь, дорогая, ты ведь уже поняла, что мне необходимо сейчас уехать. Для меня это очень важно. Месяц – это не тяжело. Твои родители…
– Я не хочу возвращаться к родителям даже на месяц.
Такая у Николь была новая навязчивая идея. Она хотела непременно остаться в этой квартире. И он знал, что каждую ночь жена будет спать, повернувшись лицом к двери, и ждать его. Жуткая жалость вдруг пробудилась в нем, но он тут же обернул ее на себя.
– Тебе здесь будет скучно одной.
– Я буду заходить к Малиграссам. И Жозе обещала свозить меня куда-нибудь на машине.
Жозе! Он отпустил Николь, стал хватать свои рубашки и упихивать их в чемодан. Жозе! Нет! Надо думать о Николь и быть человеком! Жозе! Когда он наконец избавится от этого имени, от этой ревности? От единственной безумной страсти в его жизни? И надо же статься, чтобы это была ревность. Он ненавидел себя.
– Ты будешь мне писать? – спросила Николь.
– Каждый день.
Ему хотелось обернуться и сказать ей: «Да я могу тебе тридцать писем заранее написать: „Дорогая, у меня все хорошо. Италия прекрасна, мы непременно поедем сюда с тобой вместе. У меня очень много работы, но я думаю о тебе. Мне тебя не хватает. Завтра напишу подробнее. Целую“». Вот что он будет ей писать целый месяц. Почему так получается, что для одних слова находятся, а с другими не знаешь, что и сказать? Вот Жозе, например! Он напишет ей: «Жозе, если бы вы только знали… Не знаю, как и объяснить вам! Я так далеко от вас, от вашего лица, но одна мысль о вас уже раздирает мне сердце. Жозе, неужели я ошибся? Может, еще не поздно?» Он был уверен, что напишет Жозе из Италии как-нибудь вечером, тогда тоска вконец одолеет его, а слова под его пером станут жесткими и тяжелыми, но слова, обращенные к ней, будут живыми. Он сумеет наконец написать ей. А вот Николь…
Белокурая Николь все еще плакала, опершись о его спину.
– Прости меня, – сказал он.
– Это ты прости меня. Я не знала… Знаешь, Бернар, я пробовала, я пыталась…
– Что? – испугался он.
– Я пробовала как-то подняться до тебя, быть достойной тебя, помочь тебе, быть тебе интересной собеседницей, но я не так образованна, не так весела, вообще я – никакая… и я ведь это знала… Бернар, Бернар!
Она задыхалась от слез. Бернар прижал ее к себе и упавшим голосом долго и исступленно просил прощения.
А потом была дорога. Только за рулем одолженного у издателя автомобиля Бернар обрел мужские повадки. Он вновь ощутил себя мужчиной, закурив сигарету и управляя одной рукой, вступив с другими ночными водителями в условное перемигивание фарами, посылая и получая в ответ тревожные или дружеские сигналы, а за окном мелькали деревья и пышная листва плыла ему навстречу. Он был сам по себе. Ему хотелось мчать по дороге всю ночь, и он уже чувствовал подступающую усталость. На него нисходила какая-то счастливая покорность судьбе. Все, может быть, упущено, но что с того? Было кое-что другое, и он всегда знал это, а именно он сам, его одиночество, – и это вдохновляло его. Завтра Жозе опять все заслонит собой, и он совершит тысячу низостей, испытает тысячу поражений, но сегодня вечером, устав и измучившись тоской, он обрел то, что будет теперь всегда с ним: собственное умиротворенное лицо в оправе листвы.
Ничто не похоже так на итальянский город, как другой итальянский город, особенно осенью. Проведя шесть дней в городах от Милана до Генуи, поработав в музеях и газетах, Бернар решил вернуться во Францию. Ему захотелось пожить в провинции, в гостиничном номере. Он выбрал Пуатье, казавшийся ему самым мертвым городком, и нашел там самый заурядный отель, который назывался «Щит Франции». Весь этот антураж он выбрал с такой же решительностью, с какой поставил бы мизансцену в пьесе. Только он еще не решил, какая пьеса будет разыграна в этих декорациях, похожих, в зависимости от погоды, то на атмосферу в книгах Стендаля, а то и у Сименона. Не знал, какой провал или ложное открытие ждет его. Но он знал, что ему будет очень скучно, бесконечно, даже отчаянно скучно, и отчаяние это зайдет так далеко, что, быть может, вытянет его из того тупика, в котором он оказался. Тупик – он знал это, проведя десять дней за рулем автомобиля, – не его страсть к Жозе, не его неуспех в литературе, не его охлаждение к Николь. Чего-то не хватало и в его страсти, и в его бездарности, и в его охлаждении к жене. Чего-то такого, что должно было заполнить утреннюю пустоту, избавить от раздражения против себя самого. Все. Будь что будет, он складывает оружие. Три недели он будет выносить себя сам, один.
С первого же дня он наметил себе каждодневный маршрут. Газетный киоск, аперитив в кафе, ресторанчик напротив, где подают фирменные блюда, кинотеатр на углу. На стенах номера в гостинице были серо-голубые обои, крупные цветы на них совсем выцвели, перед кроватью лежал коричневый коврик; еще был эмалированный умывальник, в общем, все было хорошо. Из окна он видел дом, старая рекламная афиша приглашала в «Сто тысяч рубашек», закрытое окно (может, когда-нибудь откроется) давало ему смутную романтическую надежду. Еще на столе лежала белая скатерть, она скользила, и, чтобы писать, надо было снимать ее. Хозяйка гостиницы была приветлива, но сдержанна, горничная на этаже – стара и болтлива. Ну а еще в Пуатье в этом году часто шел дождь. Устраивался здесь Бернар всерьез и надолго. Вел себя довольно церемонно, как иностранец; покупал массу газет, на второй день даже выпил пару лишних стаканчиков смородинового белого вина. Это вызвало опасное опьянение, в том смысле, что тут как тут возникло имя Жозе. «Гарсон, как быстро можно связаться по телефону с Парижем?» Но его хватило на то, чтобы не позвонить.
Он снова взялся за свой роман. Первая фраза была фраза моралиста. «Ничто не вызывает больше наветов, чем счастье…» и так далее. Фраза эта казалась Бернару верной. Верной и ненужной. Но она красовалась вверху страницы. «Глава I… Ничто не вызывает больше наветов, чем счастье. Жан-Жак был счастливым человеком, и о нем говорили много дурного». Бернар предпочел бы начать как-нибудь иначе. «Маленькая деревушка Буасси предстает взгляду путешественника тихим посадом, залитым солнцем…» и тому подобное. Но так он писать не мог. Он хотел сразу перейти к главному. Но что было главным, что знал он об этом главном? По утрам он час писал; выходил за газетами, брился в парикмахерской и завтракал. Потом, после двенадцати, работал еще три часа, немного читал (Руссо) и до обеда гулял. Потом – кино, а однажды – публичный дом в Пуатье, жалкий, но не хуже других, где он понял, что воздержание способно возвратить утраченные ощущения.