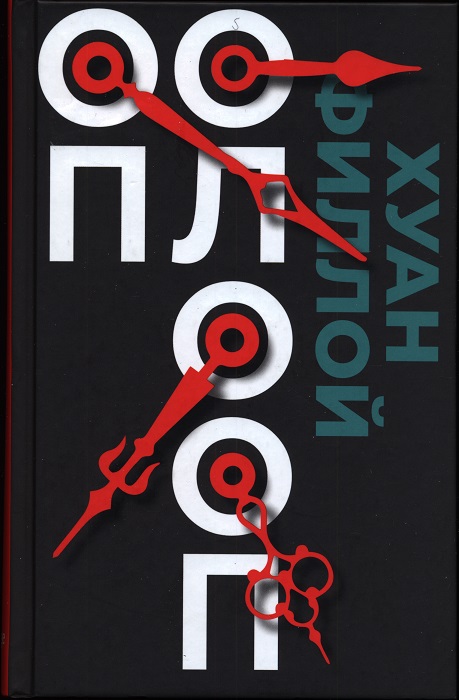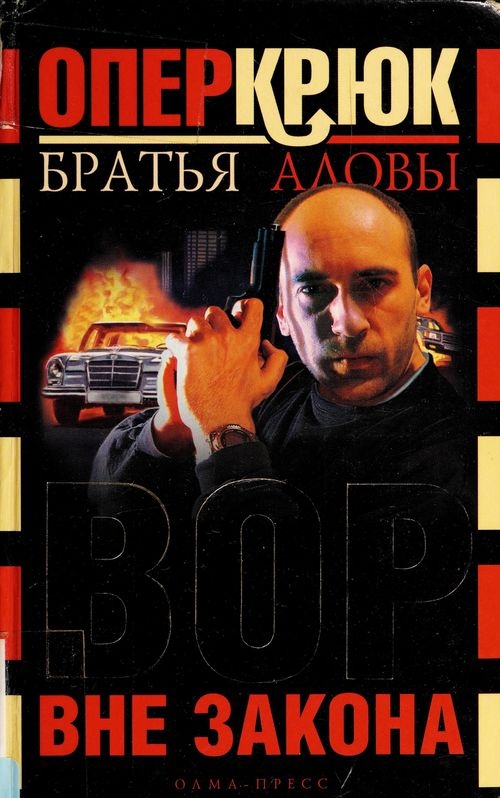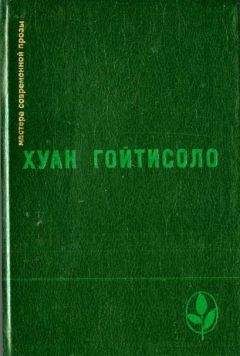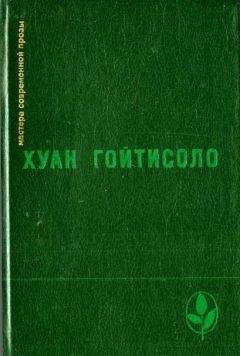Увидев, как кавалер манерно идет по коридору, Оп Олооп ощутил запрет, заставивший его замереть и ослепнуть, подобно часовому, заснувшему стоя.
Было видно, что Оп Олооп страдает. Истерзанный болью и кошмарами, он устал от злого рока. Его брови и уголки губ опустились. Маска пессимиста. Матово-белая кожа приобрела потертый вид.
Сквозь веки было видно, что его глаза непрестанно движутся. Они смотрели внутрь. Возможно, пытались понять парадокс его одержимости Кустаа и вытекающей из нее невозможности видеть девушку в руках другого. Возможно, бились над загадкой того, почему человек влюбляется в мечту и почему реальность разбивает ее вдребезги, заставляя верить, что собственная иллюзия наставила ему рога. Возможно…
4.00
— Вы, кажется, хотели видеть свою соотечественницу? Она свободна. Поторопитесь. Уже четыре.
Веки Опа Олоопа часто заморгали. Когда он открыл их, глаза были мокрыми.
— Да… Конечно… Но… Скажите мне сначала… что за тип сейчас был с ней?..
— Дон Хасинто Фунес. Хороший человек. Испанец, серьезный мужчина, у него фабрика игральных карт.
Разум Опа Олоопа по-прежнему штормило. Отвращение и ненависть. Оп Олооп не смог обуздать его за столь короткий промежуток времени. Мысль об адюльтере преследовала его. Ему хватило простого упоминания, чтобы выпестовать духовное сродство со шведкой. И, еще не познав ее голоса, он уже познал горечь ее неверности!
Внезапно его неудержимо повлекло к Кустаа. Она ждала. Усталая немая плоть. Он грубо схватил ее за подбородок и вздернул ей голову.
— Кустаа! — прокричал он.
И, склонившись к ее лицу, впился в него поцелуем. Грохочущим, яростно-страстным поцелуем.
— Кустаа! Я твой земляк. Я из Финляндии.
Сжав ее обнаженные руки, он поднял ее. Поставил рядом с собой. И провозгласил:
— Иди. Вперед!
Оп Олооп вложил в свои действия столько похоти и страсти, что инцидент этот насторожил всех. Его хорошо знали и ценили за культурность и учтивость. Никто не понимал, чем вызвано подобное поведение.
Жизненные перипетии часто меняют отношения между людьми. «Женщины, понимающие жизнь» отлично это знают. Поэтому они легко приспосабливаются к капризам судьбы и позволяют случаю обращаться с их телом так же, как их тело обращается с собственной тенью.
Кустаа даже не подняла брови. Ее серые глаза уставились в глаза Опа Олоопа и перечеркнули его грубость своей удивительной беззащитностью.
Они вошли.
Девушка зажгла свет.
Оп Олооп захлопнул дверь.
Его мягкость и деликатность исчезли. Страсть пришпоривала минуты. Он был на взводе. Как пират, взявший на абордаж самого себя, он первым делом расправился с цивилизованностью. Затем, отведав крови, он набросился на инстинкты. Одним рывком он сорвал с Кустаа блестящее красное кружевное платье. Вторым расправился с шелковыми завязками лифа. Жалкие обрывки вещей, что всегда хранят чужой стыд! Страстные обломки застежек, молний и пуговиц! Ее грудь явила себя бесславно, подобно бутону, окруженному увядшими лепестками. Она была грязна и покрыта слюной предшествующих сладострастцев. Оп Олооп поспешил приникнуть к ней. И начал кусать.
Ветер похоти свистел меж его зубов. Он рождался из поцелуев и проникал до глубины души. И пока тело выло от удовольствия, разум, сбивчивый разум, бормотал на финском слова, заглушаемые вздохами.
— Кустаа… Я уже видел тебя… Не знаю где… Не знаю когда… Но я знаю тебя… Хельсинки?.. Улеаборг?.. Турку? Ты была моей с детства… Ты впечатана в мое отрочество… Все мое юношество расцвело под солнцем воспоминаний о тебе… Кустаа…
Нервные, чувственные руки Опа Олоопа огрубели от страсти. Без устали вздымались и опускались вниз. Сжимали талию и шею. Терли бедра и живот. Превратились в жирные руки сатира…
— Кустаа… Ты узнаешь меня?.. Ты моя с детства… Мы играли среди берез и тополей… Как медвежата… Катались с ледяных горок… На санках… Трактиры дровосеков… грог… Ты помнишь грог?.. Кустаа… Почему ты молчишь?
Девушка, побитая судьбой, почти не слышала его. Родной язык потряс ее до глубины души. Но она продолжала стоять, не сопротивляясь, тонкая как ниточка, раскачиваясь под то яростным, то нежным напором Опа Олоопа. Кустаа молчала, и ее тишину нарушали только стонущие глаза, она казалась неживой вещью, в которой едва теплится душа. Лишенная поэзии, обессиленная и обескровленная плоть! Плоть, возведшая презрение в абсолют! Плоть побежденная и немая!
«Mulier sui corporis potestatem non habet: sed vir»… [79] Страшная истина! Кустаа никогда не была хозяйкой своему телу. С самого детства, когда отец терзал его в душераздирающем инцесте, и до сегодняшнего дня, когда его мучил сумасшедший соотечественник, ее плоть никогда не подчинялась собственным желаниям. Она вспомнила пору школ и интернатов, когда ее телом наслаждались дяди и жадные до новых ощущений одноклассники. За этим последовали зверские избиения женихом, аборт и бесконечные издевательства любовников. Наконец, конвейер страданий пополнился бессердечным обращением сутенера, привезшего ее в Буэнос-Айрес, и постоянным насилием в борделе. Она никогда не владела своим телом! Жертва крайностей и позора, жестоких кулаков и пощечин, она не ждала от мужчин ничего хорошего. Она повязла в хаосе греха, но ее разум все еще летал, стремясь стать тем, чем должен был стать. Он понимал прелесть любви и кричал о том, что не успел насладиться совершенством идиллии и прелестью флирта. И, в мыслях о высоком, причитал, что так и не смог сгладить все шероховатости и довести до идеала жизнь какого-нибудь славного малого, который принадлежал бы ей, и только ей. Такова была ее судьба, сотканная из жертв — простосердечных, невинных, снисходительных, вымогательских и продажных, — и, чтобы не плакать, она молчала.
Статистик умерил свою горячность. Опустил глаза и руки.
— Прости, Кустаа… Я был груб…
Его сочувствие причинило ей боль. Она была почти желтой от недосыпа и усталости. Сначала, как и в прочих случаях такого рода, она решила быть просто куклой из плоти. Игрушкой для чужой похоти. Но теперь сменила тактику. Перешла от холодного презрения, которое она демонстрировала в начале, к презрению снисходительному. И ответила на финском протяжным и хриплым голосом:
— Не беспокойтесь, сеньор. Для этого мы здесь. Он окаменел.
Нечто невыразимое, предчувствие разгадки заставило его приоткрыть рот и зажмурить глаза.
— Тот же голос! — прошептал он.
Оп Олооп быстро и стыдливо попытался набросить на нее платье. Было видно, что он испытывает глубочайшее раскаяние, словно только что осквернил святую для него память.
— О нет!.. Не для этого вы здесь… Никто не должен служить подстилкой для других… Я вел себя как дикарь… Сегодня ночью я не владею собой!.. Умоляю тебя, прости меня…
— Я прощаю вас. Вам не нужно ни о чем умолять.
Беспокойство Опа Олоопа возросло еще больше. Ощущение фиаско заставило его густо покраснеть, он сел на краю кровати и, произнося слова, не смотрел женщине в глаза.
Кустаа оперлась подбородком на ладонь. И сладостно замерла в той же позе, в которой он замирал в тяжелые моменты своей жизни. Их взгляды встретились, замерли на мгновение и, казалось, проникли друг в друга, пройдя по пути, по которому не раз ходили ранее.
— Эти глаза!.. Твой голос!.. Они внутри меня, подобно наследию давно минувших дней… — пробормотал он в отчаянии, не в состоянии вспомнить, откуда в нем эти воспоминания.
— Это невозможно. Я впервые встречаю вас.
— Это не так. Все, что я вижу в тебе, мне знакомо… Откуда ты?
— Из Улеаборга.
— Из Улеаборга! Возможно ли это! Ты не врешь мне?
— У меня есть документы. Я родилась в год войны.
— Кустаа… а дальше? Как твоя фамилия?
— Иисакки. Кустаа Иисакки.
— Иисакки?.. Действительно… Я не помню такой фамилии. Не знаю ее. Но в тебе есть что-то, что нельзя спутать, что заставляет меня быть уверенным… Что-то, что говорит мне, что ты была моей еще до рождения…