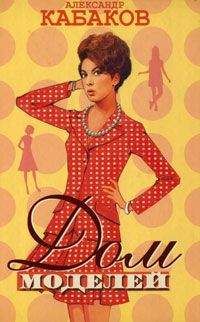Теперь Юра приходил раз в два-три дня. Стал грустен, рассказывал все подробнее о своей жизни: о работе в институте, о том, что для программиста-системника высочайшей квалификации, как он, тут дела настоящего нет, что мать боится соседей, которые уже не раз предлагали убираться в свой Израиль, что разрешение, говорят, должно быть вот-вот, и тянуть нельзя, потому что дверь может захлопнуться... И однажды, когда на часок оба угомонились, лежали голые поверх мятой мокрой простыни, сказал: «Слушай, а если бы ты ушла от своего... главнокомандующего... ведь нас бы не выпустили, да? Из-за него...»
Она изумилась настолько, что даже высохла сразу. Ей ничего похожего в голову не приходило. Она наслаждалась этим июлем, жарой, мокрыми простынями, собой, им – и не думала ни об уходе, ни, уж конечно, об отъезде, хотя уже давно знала о его обстоятельствах.
После этого он стал говорить о возможности соединиться и, конкретнее, вместе уехать все чаще. Она молчала, иногда вздыхала, даже начинала плакать, но в душе понять его не могла никак – ну что ему еще надо? Все прекрасно... А уедет, в конце концов, будет, конечно, грустно, тяжко, даже ужасно, но ведь останется что вспомнить, разве плохо? Ее удивляла его положительность, все более частые разговоры о браке, жизни вместе, даже о детях – о, Господи, ну какие еще дети? Знал бы он...
Володя стал ездить в командировки реже, с Гоголевского бульвара возвращался хмурый, ел молча, ложился, смотрел всякую муть по видику – бегал какой-то полуголый, со вздутыми бицепсами, стрелял непрерывно... Потом муж засыпал, во сне тяжело храпел, бормотал... С Юрой встречаться стало совсем трудно, он получил разрешение, бегал оформлять всякие бумажки, а вечером было просто невозможно, да и днем Володя мог вернуться в любую минуту. Однажды удалось – начались какие-то большие учения, о которых писали в газетах. Юра пришел с утра, она отпросилась со службы, набрала кучу книг для работы будто бы... Юра принес кассету, она уже давно просила, никогда не видела, а попросить Володю, хотя была уверена, что он сам где-то смотрел, – с его прямым ртом и блекло-золотыми звездами, словно приросшими к плечам, – было невозможно. Пошли в спальню, включили видик. На экране забарахтались, красно-мясное, мутное, чудовищно увеличенное, полезло с экрана ее давнее безумие, ее бедствие, болезнь... Она старалась не всматриваться и все же замечала все, покрывалась холодным потом, почти теряла сознание и уже извивалась сама, тащила к себе его, открывала рот, словно засыпающая рыба, и одной рукой прижимала его все крепче, а другой не оставляла себя в покое, но от этого заходилась еще сильнее, круче, болезненней.
Входная дверь открылась. В ту же секунду она уже знала, что делать. Всю Юркину одежду – одним броском в окно... Сумки с ним сегодня не было, так... Еще носки, хорошо... Теперь иди, иди, да не бойся же, смотри, здесь крыша в полуметре, давай, все, пока, привет. Володичка, не могу, сил моих нет больше от этой жары, лежу, ну, устал? Иди, раздевайся, полежи немного, потом я тебя кормить буду...
Он стоял на раскаленной крыше, переминаясь, словно на пляже в середине дня. Никто его не мог здесь увидеть – он прижался к простенку, крыша этого крыла была обширна, а по краю ее стояли, словно защищая его от всего мира каменной шеренгой, юноши и девушки с книгами и глобусами, с теннисными ракетками и винтовками, с отбойными молотками и скрипками, а между юношей и девушкой обязательно были колосья, и звезды, и каменные стяги, и снова колосья. Небо над ними было светлое-светлое, почти без синевы, словно насквозь прожигало синеву страшным солнцем, и она расползалась, как синтетика под утюгом, сползла к самому горизонту.
Он заглянул в окно. На кровати лежала его женщина – голая, мокрая от пота, выступившего еще под ним, розовые и рыжевато-желтые колечки коротких волос просвечивали над глубокой складкой, притягивающей солнце. Рядом с ней лежал генерал в полной боевой форме, в портупее, в сапогах, и пыльные звезды сверкали на его погонах зеленоватым золотом.
– Я улетаю, – сказал Юра. – Если хочешь, летим вместе, я могу тебя взять.
Женщина повернулась на бок, молча перелезла через генерала, причем груди ее проползли точно по его немногочисленным – мирный генерал – планкам, слезла с кровати и пошла к окну.
– Ладно, – сказала она, – уговорил, сионист. Летим... Только, чур, всю дорогу целуемся.
– Идет, – сказал он.
– Стойте, – сказал генерал. – Вы будете сбиты при попытке пересечения государственной границы! Я, конечно, могу позвонить Коле Афанасьеву из управления пэвэо, все же кадетами вместе учились, но при одном условии: как только обживетесь, пришлете мне еще двухкассетничек какой-никакой. Хоть «Санио», только ватт на двадцать пять, ладно? Иначе – стреляю...
Он, не вставая, расстегнул кобуру и вытащил «макарова». Но было уже поздно...
Они летели над городом, обнявшись. Пули маломощного пистолетика прошли далеко, не причинив им никакого вреда. Жара стояла страшная, и они еще раз порадовались, что не успели одеться. Они вцепились друг в друга, руки их были скрещены, ее крепкий кулачок сжимался все сильнее, его пальцы втягивало еще глубже...
– А у Шагала все евреи летают, – сказал он.
– И невесты, – сказала она.
– Правда, не с высотки, – сказал он, и оба расхохотались.
От жары в тот день у многих горожан звенело в ушах. Они поднимали глаза к светлому небу и с надеждой смотрели на два небольших облачка. Но облака были слишком светлы для дождевых.
По дембелю Владимир вернулся в ноябре. А уже с нового года стал работать в милиции, в своем же звании – старший сержант – обычным постовым в линотделе железнодорожной станции. Не ждал он от этой службы никаких особых благ, а желал только одного: принять участие во всеобщем и повсеместном наведении порядка, такого устройства вещей, чтобы каждый человек на своем месте занимался своим делом, а после шел в свою квартиру, к матери с отцом или к собственной семье с детьми, участвовал в самодеятельности, занимался спортом, грибы собирал, читал художественную литературу... Короче, чтобы жили люди, как люди, а не болтались без толку алкаши по магазинам, не тащили бы все, что под руку попадет, из подходящих грузов, вели бы себя культурно и тактично. С того дня как Владимир помнил себя взрослым, то есть лет с одиннадцати, он всегда только этого и хотел, и добивался – в оперотряде и на действительной тоже. Хотя, конечно, там были не алкаши, и приводить тех, с автоматами и гранатометами, в сознательное состояние приходилось другими способами. Этим способам он учился так же старательно, хотя и без особого удовольствия, как заправлять постель, укладывать учебный парашют и разбираться в обстановке на раздираемом империалистическим вмешательством Востоке. Главное – была цель: чтобы все люди, и у нас, и в братских странах за рубежом, жили как положено, в порядке, трудовой дисциплине, взаимном уважении и тактичном, чутком отношении друг к другу.
Такой он был человек – многое человеческое было ему совершенно чуждо.
Теперь Владимир сидел в дежурной комнате, поглядывал в большое окно на абсолютно пустой вечером перрон и ждал двадцати трех тридцати. Ровно в двадцать три тридцать он выйдет на перрон и пройдет его два раза из конца в конец, а затем осмотрит зал ожидания, зал автоматических камер хранения и буфет их маленького вокзала – чтобы к приходу фирменного «Северного Кавказа» в двадцать три сорок одну все было чисто. За те полгода, что он работал, были достигнуты определенные успехи в наведении образцового общественного порядка на патрулируемых им территориях пассажирской железнодорожной станции и привокзальной площади. Владимир задержал, например, осмотрщика с ПТО Николая Бибу и его дружка, нигде не работающего некоего Смирнова А.П., в момент хищения ими из грузового вагона двух коробок печенья «Праздничное». На хрена им снилось это печенье, ни Колька, ни Смирнов А.П. не знали. Сначала подумали, что, может, в коробках лосьон или одеколон, то есть не подумали даже, а так, без всякого основания понадеялись. Очень надо было выпить. А когда на свету, выбравшись из парка, рассмотрели, было уже поздно – все равно уже валялась в междупутье сорванная ими пломба и зияла тьма за сдвинутой дверью вагона. Решили печенье ближе к утру сдвинуть Анжелке из вокзального буфета – либо за пару портвея, либо за бутылку самопального. Тут их сержант и повязал. При задержании Смирнов А.П. хотел оказать сопротивление, но гражданин Биба его остановил словами: «Брось! Володька только из Афгана, вэдэвэ!» – и Смирнов А.П. передумал... Успешно также вел Владимир борьбу и с антисоциальными элементами, избравшими, конечно, вокзал местом своей ночной жизни. Известную в поселке бабу Нину – очень тощую пятидесятилетнюю женщину с удивительно смятыми чертами лица, всегда с мокрым подолом, в сползающих с пропитых ног чулках – он отправил куда следует сразу же, во второе свое дежурство. И добился-таки, что ее наутро не отпустили. Дружка ее, глухонемого Сеню, толстого малого, летом и зимой ходившего в лопнувшей на спине куртке из искусственной кожи, Владимир методично, ночь за ночью, поднимал спящего со скамейки и, крепко держа за кожаный скользкий рукав повыше локтя, выводил за пределы своей патрульной компетенции. Больше ничего сделать он не мог, любые исправительные и медицинские организации с Сеней возиться отказывались. Ведя немого, Владимир объяснял ему, что и с физическими недостатками люди учатся в специально созданных государством школах, работают, принося обществу посильную пользу, на спецпредприятиях, а потом, проявляя силу воли, пишут книги. Сеня упрямо молчал, а за углом, в переулке, выведенный с привокзальной площади, останавливался и, дождавшись, пока сержант удалится на безопасное расстояние, доставал из-под кожанки пузырек меновазина и с удовольствием выпивал. Затем, в качестве положенного подгулявшему человеку неприятия власти, поворачивался лицом к ушагавшему милиционеру, рылся в штанах и долго стоял посереди дороги, будто опираясь на поблескивавшую под доходившим от станции светом струю... Впрочем, постепенно он перебазировался на автовокзал. Простых же алкашей вытеснила жизнь.