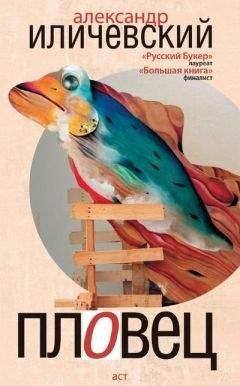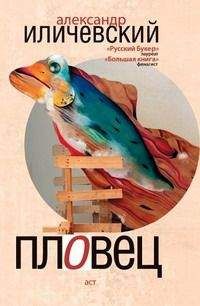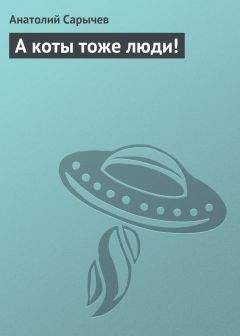Я шел и понимал, что именно это мне и нужно было: не быть на людях, а пройтись, вышагать свою мысль, так обеспокоившую меня еще в дороге… Рождение моего ребенка парадоксально то освобождало меня от жизни, то порабощало, задавливало страхом смерти. Или — напротив, мне отчего-то казалось упоительным отдаться всей этой великой массе природы, лечь в песок, перейти в чистую энергию травы, воздуха, ила, росы, солнца.
Весь день я проплутал по острову и уже предвкушал стремительный закат и ночь, полную звездной жути. Предчувствие снова заполошно захватило меня.
Наконец, уже теряя сознание, кинулся в реку. Пил я, как губка, всем существом, пил до тех пор, пока вода не пошла из меня обратно, с теплым странным вкусом моего нутра.
Остыв, заметил в стороне небольшой табун. Лошади вели себя беспокойно. Несколько собак — штук пять или семь — вразнобой, играючи и бестолково нападали на лошадей, те вскидывались, неслись, но останавливались невдалеке. Собачки снова кружили, подбирались, и снова лошади, взбрыкнув, отмахивали от них.
На всякий случай я забрался на дерево — на огромную, размером с дом, ветлу. Ветви ее были спутаны космами травяного мусора, занесенного в крону половодьем. Из-за этого дерево было похоже на срубленную голову бородатого старика. Я выглядывал из-под его бровей.
Смеркалось, и комары стали свиваться в шаткие сизые столбы. Все яростней я отмахивался от них веткой.
Собаки наседали, лошади отбрыкивались.
Солнце стремительно садилось над степью, выплескивая в вышину два клинка. С запада на остров наваливался глубокий, бездонный от прозрачности сумрак. Я понял, что вот это — то, что вокруг, — и есть смерть, в лучшем ее виде. Что вот это небытие заброшенности — как раз и есть то, к чему я внутренне так стремился.
Вдруг среди темнеющего неба появились всадники. Их лошади плыли в траве, раскачивая крутые рыжие крупы, омывая их взмахами хвостов.
Я крикнул:
— Эй!
Два степняка подъехали шагом и с любопытством оглядели мой насест.
Это были молодые крепкие мужчины — один казах, другой по виду ногаец. Их лица были ясны. Смотрели они строго, за спинами качались дула ружей.
Один, что был повыше, покрепче, спросил:
— Это ты весь остров истоптал?
Степняки рассматривали меня.
Я слез с дерева и рассказал, как заблудился.
Лошади вдали снова шарахнулись.
Ногаец всмотрелся, скинул ружье, засвистал.
Вдруг он выстрелил вверх и еще, когда лошадь, ринувшись вперед, откинула его на спину.
Собаки прянули и, вытянувшись в линию, рысцой припустили прочь, скрылись в траве.
Казах пристукнул свою лошадь, и та пронесла вперед. Товарищи разминулись, их лошади потерлись головами, обернулись друг к другу.
— Это волки! — подсказал мне стрелявший.
Он был возбужден. Скоро подъехал его товарищ.
— Волки сытые, лошадь их не боится, — продолжил объяснять ногаец. — Волчата подросли, стая теперь их учит охотиться, натравливают на лошадей.
Через пять минут я обнимал казаха и ерзал на тугой лошадиной спине.
Ферма «Рассвет» состояла из остова коровника, двух хозблоков и барака. Над коровником обгоревшие стропила пересекали лиловое, заваленное рыжей рудою заката небо.
Во дворе нас встретили две молодые женщины — по-видимому, сестры. Одна в очках, в джинсах, строгий и внимательный взгляд, волосы подняты в хвостик. Другая — в светлом ситцевом платье, красивая, стройная, с годовалым ребенком на руках.
Я неловко соскользнул с крупа, чуть по щеке ожегшись конским волосом.
Лошадь отступила от меня — и отсвет заката озарил двор, оштукатуренные стены.
Я поклонился женщинам.
Спешившись, парни привязали лошадей и, что-то тихо сказав женам, пропали в доме. Те поспешили за ними.
Во дворе громоздилось разное хозяйственное старье: и плуг, и борона, и косилка, и колесный трактор, и аэросани, с деревянным пропеллером, с кабиной, закрытой мутным плексигласом; стояли две ржавые железные кровати с панцирной сеткой. Я слыхал, что зимой в этих краях по замерзшей реке передвигаются на «Буранах» или мотосанях.
Над входом был прикреплен ртутный уличный фонарь, едва брезжущий. Лошади терлись у столба с перекладиной, к которой проволокой был прикручен обрезок рельса.
Я все равно хотел пить, и комары меня совсем уже заели.
Я присел на большой плоский камень, похожий на стесанный жернов.
Из дома вышли женщины, та, что была в очках, поспешила ко мне с солдатской рубашкой в руках:
— Наденьте, сейчас я брюки принесу.
Приняли меня любезно: одели, напоили из трехлитровой банки теплой кипяченой водой, откуда я прежде вынул, как бедренную кость, кипятильник; стали расспрашивать.
Руки у меня дрожали. Я боялся, что не удержу банку. Капли с кипятильника текли по ноге.
Вытянув литра два и продохнув, я отвечал коротко, девушки ахали и смеялись: как я так — в одних шортах и босиком — решился заблудиться?
Мне принесли солдатские брюки, я завязал штрипки.
Жены пастухов были прекрасны, как во сне. Точеные фигуры, красивые лица, исполненные достоинства жесты, точная речь. Еще одну девушку, чуть погодя вышедшую из дома, я не сумел разглядеть. Она постояла в тени и снова скрылась в доме. Я только успел заметить ее долгую, ломкую фигуру: как она, выпрямив ногу, отделяется поясницей от косяка, как, запаздывая, подается спина… Мгновенный озноб узнавания тогда коснулся моего лица…
Парня, что повыше, звали Русланом. Другого — Лешей.
Меня пригласили в дом, посадили за стол. Руслан был строгий и осанистый. Леша — худой и улыбчивый. Женщина в очках звалась Айсель, ее сестра — Гуля. Айсель была серьезна, ухаживала за всеми. Гуля улыбалась, и ахала, и держала на коленях крепкого младенца. Мальчика звали Темирлан.
Ужин состоял из вареной картошки, рыбы, крепко жаренной вместе с чешуей, очень соленой, и чая с печеньем.
Во время чая, когда, смутившись, я не знал, о чем начать говорить, в кухню вошла та девушка. Скромно, глубоко вздохнув, она уселась у входа на краешек стула. Вытянула шею и старалась не смотреть на нас. Она упиралась ладонями в колени, будто готова была тут же встать и выйти, если мешает.
Темирлан, похожий на китайского императора в младенчестве, играл отцовской плеткой, смеялся. Мать пересаживала его с одного колена на другое, он кусал ей запястье, она отнимала, играючи.
Руслан вдруг, ухмыльнувшись, спросил:
— На прошлой неделе волк овцу задрал, пришлось зарезать. Если б мы тебя не нашли, где б ты ночевал?
Подумав, я ответил:
— Я бы вышел к реке, ночевать у воды спокойней. Луна в омуте — соседка.
Казах засмеялся, зажмурив глаза, показал лошадиные зубы:
— Вот волки на водопой как раз ночью и выходят.
Айсель строго посмотрела на мужа, и Руслан посерьезнел:
— Пойдем, рыбу достать поможешь, — сказал он и отложил вилку.
Мы вышли на крыльцо. Леша выволок из сеней корыто, полное спутанных сетей. Втроем мы присели над ним на корточки. Потихоньку выбирая холодную сеть, втягивая ноздрями речную свежесть, мы расправляли кошель, выкладывали на перила крыльца, выпутывали рыб, под руками открывавшихся в путанке серебряными слитками.
— А почему вы волкодавом не обзаведетесь? Хорошая собака всегда в помощь, — сказал я.
— А ты попробуй ее прокорми, — ответил Руслан. — Овчарка за три дня целого барана съедает. А волки за все лето только два раза баловались.
Ткнув окурки в ящик с песком под пожарным стендом, мы зашли в дом.
Во все время мне страшно было взглянуть на эту девушку; что-то повернулось горячо во мне, когда она вошла. Я не знал ее имени и боялся спросить.
Она была красива, и вместе с тем лицо ее было неуловимо нескладно, потерянно; взгляд умный, но смущенный настолько, что было неловко пытаться уловить ее зрачки, так как стало ясно: перед ней в воздухе незримо стоит нечто настолько неумолимое, что любое вмешательство человека — кощунство.
В доме тревожно пахло яблоками и речной сыростью.
Сестры относились к соседке по-разному. Айсель привечала ее. Увидев в дверях — как она настороженно остановилась, будто слепая, глядя не на тех, кто сидит за столом, а в сторону, на плиту, на кастрюли на ней, — она тут же подхватилась, встала:
— Садись, садись с нами.
И я видел, как Гуля пожала плечами, пересадила Темирлана и отвернулась.
Во все время разговора девушка сидела неподвижно. Но вдруг сказала, перебив Руслана, сказала громко и отчетливо:
— В прошлом году у займища рыбаки стояли. Один ходил ко мне, москвич тоже. Телефон оставил. Звал: приезжай, — сказав, она не пошевелилась.
Сестры переглянулись. Руслан слегка улыбнулся и отвел глаза. Леша хохотнул, показав две коренные коронки.
Не сразу я понял, что девушка слепа. Красота ее, немного вычурная, выводила взгляд из равновесия. На нее нельзя было смотреть прямо: слишком велика была сила, реявшая перед ее глазами, — ты сам словно бы слеп от избытка зрения. Украдкой взглядывая на нее, я никак не мог поверить, что она слепа, настолько отчетливы были ее движенья. И только их взвешенность позволяла догадаться, что отношения с пространством у нее выверены, как у канатоходца баланс шага. Я тщательно осматривал ее одежду, оправленную юбку, белую блузку. Все вещи были безупречно чистыми, выглаженными… Господи, ну откуда я взял, что слепцы неопрятны?