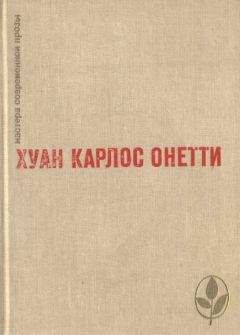Здесь независимо от моей воли никогда не написанный эпизод раздваивался. Потому что если монолог епископа под светлой фигурой ангельского роста был не более чем великолепным шутовством, Диаса Грея и женщину следовало усадить в глубине библиотеки, где они терлись спинами о туристские справочники, словари, полное собрание сочинений Йонаса Уайнгортера. Они находились в тени, ярусом ниже его преосвященства, и ангела могло заменять меловое пятно. Но если то, что говорил епископ, ловя в неповторимом профиле ангела выражение одобрения или недовольства, представляло (хотя бы только для них) истину и откровение, требовалось, чтобы врач и Элена Сала оказались на месте случайно. Они попадали в комнату дворца, предназначенную для музицирования в зимние месяцы. В ней остались звуки более явственные, как пятна по краям тяжелой портьеры, которую оба, соприкасаясь руками и дыханиями, по этой второй версии, отодвигали, чтобы, подглядывая, ужаснуться красоте ангела. Поверив в ее возможность, освещая ею сцену, которую созерцали, они начинали слушать, одержимые тем любопытством, которое во сне пересиливает страх, рожденный какой-нибудь неожиданностью, и влечет нас к неизменно двусмысленному финалу и пробуждению.
Профиль ангела хранил завиток улыбки, пока речь епископа текла без ошибок. Когда его преосвященство путал слова, единственное видимое веко падало, бдительно мигало, приглушая освещение зала; неопровержимый ангельский рот над пергаментом, где был записан монолог, растягивался в жесткую горизонталь, подобно обвиняющему персту.
— Они не существовали раньше, перестанут существовать потом, — говорил епископ, преждевременно нагнетая пафос. — Ушедших и еще не пришедших в мир все равно что не было и не будет. И однако все виновны перед богом в том, что от родильной крови до смертного пота помогают друг другу поддерживать и культивировать ощущение своей вечности. Вечен один господь. Каждый человек — только нечаянный миг, а низменное сознание, позволяющее искать опоры в причудливом, раздробленном и услужливом ощущении, которое именуют они прошлым, позволяющее чертить пути к надежде, к исправлению того, что именуют они временем и будущим, это всего лишь личное сознание. «Личное, — повторял его преосвященство с рукой, воздетой к потолку, успокаиваясь при взгляде на улыбающийся профиль ангела. — Другими словами, именно та тропа, что удаляет от цели, к которой с самого начала они якобы стремились. Когда я говорю о вечности, я имею в виду божественную вечность, когда упоминаю о царстве божием, ограничиваюсь утверждением его бытия. Я не предлагаю его людям. Кощунство и абсурд — бог с памятью и воображением, бог, который может быть завоеван и познан. Страшная карикатура на божество — бог, предупредительно отступающий перед каждым шагом, который делает человек. Бог существует вне человеческих возможностей; только поняв это, можем мы стать в полной мере людьми, сохранить в себе величие господа. А помимо этого — куда и зачем? — Глаза на разгоряченном потном лице поймали заслон ангельского века, епископ поправился: — Куда? Коли кто-то отыскал направление, кажущееся приемлемым, зачем им следовать? Я буду целовать ноги тому, кто поймет, что вечность — это настоящее, что единственная цель — это он сам; кто согласен и упорствует просто потому, что не может иначе — быть самим собой каждую минуту и вопреки всем препятствиям, с напряжением душевных сил, обманываясь памятью и фантазией. Целую его ноги, рукоплещу отваге того, кто принял все до единого законы игры, которую придумали без него, не спросив, хочет ли он в нее играть».
Элена бросала портьеру, открывала сумку и начинала пудриться: проталкиваясь сквозь толпу курильщиков в вестибюле, двигалась к выходу. Быстрый ветер охлаждал воздух площади, спускался к району вокзала.
— Как вы находите? По-моему, очень интересно, — говорила она, повисая на руке врача. — Не думаю, конечно, что я все поняла. Нет, не будем заходить в кондитерскую. Он именно такой, как говорил епископ. Человек, который желает быть самим собой и принимает правила игры.
Они огибали площадь, вдыхая вечернее благоухание деревьев, соединенные только шорохом рыжего песка под ногами: не понимая, смотрели на афиши кинотеатров, отдавались покатости улицы, которая вела их к гостинице.
— Не знаю почему, — сказала она, — глупо, но я уверена, что он здесь, что, если повезет, я в любую минуту увижу его сидящим в кафе или столкнусь с ним.
— Почему бы вам не остаться в Ла-Сьерре? — предложил он.
— Не могу. У меня свидание с Орасио в Санта-Марии, в приречной гостинице. Да и к чему оставаться, все бесполезно. Поможет разве что случайность… Напрасно я бросилась за ним вдогонку. Мне его не настичь, это ясно. Я говорила по телефону с Орасио, у него есть для вас выгодное дело.
За полквартала до вывески и круглых огней гостиницы Диас Грей принял решение удрать с первым же утренним поездом, вернуться в консультацию и в больницу, отдохнуть какое-то время в идиотизме дружеского круга; забыв женщину и неисполнимые обещания, знаком которых она была, в одно прекрасное утро подгрести к бухточке у деревянной гостиницы, подняться по лестнице и удивить заспанного хозяина, вновь очутиться в музыкальной комнате мистера Глейсона, посмотреть на зад скрипачки, развеять миф о карлице.
— Вы будете спать со мной, — сказала Элена, останавливаясь у входа в гостиницу. — Прежнее кончилось. — Скрестив руки на груди, она огляделась по сторонам, минуя его, и пристыженно засмеялась. — Совсем кончилось. Не знаю, давно ли, я поняла это только что. Но, может быть, у вас иные желания? Я всегда плохо обращалась с вами. Что бы вы хотели?
— Я хотел бы придушить вас, — пробормотал Диас Грей, — слегка.
— Хорошо, идемте, — сказала она, беря его под руку.
Высокая и отстраненная, она пронесла на губах и в глазах мимо конторки привратника, как хрупкий предмет, спокойную улыбку, спящие останки долгой напряженности. Диас Грей не посмел заговорить, не вымолвил ни слова и в поднимавшемся лифте, чувствуя, что он, мужчина, которого держит Элена Сала, до боли сжимая ему предплечье, для нее, помимо олицетворенного изумления, идущего по коридорам и с осторожностью легшего в постель, есть не что иное, как шаткий символ внешнего мира и связи с миром, неподвластный обстоятельствам, насущный для даяния.
Но три ненастных дня пришли, когда я был еще в Буэнос-Айресе; забыв про фарс с рекламным агентством, я все возможное время проводил дома, глядя на серое небо, лужу, которая росла у плохо закрытого балкона, и ощущая, как одиночество сладко подступает к пределу, когда я поневоле увижу себя выделенным, голым, без примеси, когда оно прикажет мне действовать и стать посредством действия кем-то другим, быть может, окончательным, до срока непознаваемым Арсе.
Лежа на кровати, бродя по неубранной комнате, я помогал прекращению своего бытия, своему угасанию, выделял, выталкивал Браузена в сырой воздух, крутил его, как кусок мыла в воде, чтобы растворить.
Ближе к вечеру из-за стены донесся плач Кеки. Я не слыхал, как она вошла, но был уверен, что она плачет одна, на кровати, уткнувшись открытым ртом в подушку. Наверное, и ее давило бремя неудач, воплощенных в дождливом дне, или от сырости плодились «они», или томило предчувствие возникновения Арсе и собственного уничтожения. Она могла догадываться о развязке по внезапному мощному наплыву воспоминаний, которые подходили поочередно и, до невыносимости укрупняясь, становясь жесткими и тяжелыми, сливались и исчезали, на этот раз навсегда — каждое лицо, каждая сцена, каждое пережитое чувство; так что она, как и я, не укроется больше сплетением прежних дней, не выведет из него будущее, и, вынужденная разглядывать одну черту за другой, осязать подлинный, всегда поразительный, всегда неутешительный смысл формы из плоти и костей, наконец-то впервые в жизни познает себя. Но главное — я прислушивался к звуку ее плача — по ту сторону стены были «они», резвые и веселые, как на первом свидании, как простые дети дождливого вечера.
Вероятно, Кека зажгла поодаль от кровати, где плакала и пыталась спрятаться, ночник с красным абажуром, чтобы приманить их, отвлечь от себя, точно насекомых; они порхали и садились, отяжелевшие, пресыщенные, мягкие, хвастаясь своей несчетностью, корча ей, щедрой матери, причине и следствию, милой тотальности, единую гримасу, выражаемую всеми их физиономиями или зыбким пространством, где ее воображение помещало физиономии. Я умру, не увидев их. Возможно, они расположились группой, как у печки на постоялом дворе в ненастную ночь, разнообразием своего роста составляя пирамиду, и, благодарные за пожалованные им кров и пищу, изъявляли свою признательность одинаковой неизменной гримасой, которая растягивает и морщит мягкий жир морды и подергивает круглую дырочку рта.