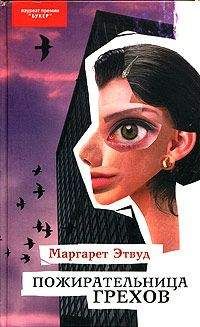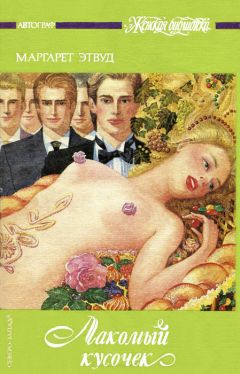Им нужны деньги, вот в чем беда. Им всегда нужны деньги, все четыре года совместной жизни, им и теперь нужны деньги. Сначала казалось: ерунда, Берни получал грант, писал картины, потом грант продлили. Она работала на полставки, составляла каталог в библиотеке. Потом в одном издательстве среднего пошиба у нее вышла книжка, и ей тоже дали грант. Ясное дело, она бросила работу, чтобы спокойно писать. Но у Берни кончились деньги, его картины плохо продавались, а потом одну все-таки продали, но почти все деньги ушли дилеру. Берни говорил, что такая система неправильная, и вместе еще с двумя художниками открыл совместную галерею, и после долгих обсуждений они назвали ее “Записки из подполья”. У одного художника были деньги, но остальные не хотели садиться ему на шею и вложились поровну. Берни так загорелся, и конечно, она одолжила ему половину своего гранта, чтобы дела продвинулись. Он сказал, что вернет деньги сразу, как начнет поступать прибыль. Он даже отдал ей две акции. Но галерея не процветала: в конце концов, сказал Берни, тебе не так уж и нужны эти деньги, ты еще заработаешь. Теперь у нее была какая-никакая, но известность, и деньги давались ей быстрее и легче, плюс поездки по колледжам, где она читала стихи. Она была “молодым” автором: это означало, что она стоила меньше тех, кто уже не был “молодым”. Ее приглашали довольно много, и вдвоем они могли существовать на эти деньги, но она каждый раз намекала Берни, что не хочет ехать, искала поддержки, но он пока ни разу не предложил ей отказаться. Нужно признать — она никогда не говорила ему, как ненавидит взгляды, устремленные на нее, и собственный голос, как чужой, а потом ее засыпали вопросами, и между строк — один и тот же убийственный вопрос: Вам есть что сказать, вы уверены?
В гуще февраля и снега она истекает кровью на кафельном полу в ванной. Она осторожно опускает голову и рассматривает белые восьмиугольники, выложенные сотами, и через равные интервалы — по одной черной плитке.
За какие-то жалкие сто двадцать пять долларов — только половина квартплаты, между прочим, — плюс двадцать пять долларов суточных. Пришлось лететь утренним самолетом, на дневной не было билетов, какой дурак полетит в Садбери в феврале? Если только специалисты по никелю какие-нибудь. Практичные господа, руду копают, заколачивают бабки, две машины и бассейн. Такие в этом отеле не останавливаются, и по утрам столовая почти пуста. Только я да старик, что громко беседует сам с собой. Что с ним? спрашиваю у официантки. Он что, псих? Спросила шепотом. Да ладно вам, он же глухой, сказала она. Нет, он не псих, он просто одинок, он совсем одинок с тех пор, как умерла жена. Он тут и живет. Всё лучше, чем дом престарелых. Летом здесь больше людей. Много мужчин, которые разводятся. Всегда видно — по тому, что заказывают.
Я не уточнила. А зря, теперь так и не узнаю. Что заказывают. А я заказываю, как обычно, что подешевле. Я не собираюсь проесть тут свои сто пятьдесят долларов. Ох уж это меню. Косят под Старую Англию, в конце каждого слова обязательно твердый знак поставят. Специальное блюдо “Анна Болейн”[35] — гамбургер, булочка не прилагается, — а сверху на мясе квадратик красного желе, затем “стакан снятого молока”. Они хотя бы знают, что Анне Болейн отрубили голову? Может, потому и булочки нету? Что творится у людей в головах? Все думают, что писатели больше понимают в том, что творится у человека в голове, но это не так. Писатели знают гораздо меньше, потому и пишут. Выискивают то, к чему другие давно привыкли. Искать в меню символику, я вас умоляю, почему я вообще об этом думаю? Нет никакой символики в этом меню — просто какой-то идиот решил блеснуть. Нет?
Ты слишком усложняешь, говорил ей Берни, это еще когда они вместе занимались самокопанием. А теперь: смотри на все проще. Ляг. Съешь апельсин. Сделай педикюр.
Очень мило с его стороны.
Может, он еще даже не проснулся. После обеда у него обычно шоколадный сон, он спит под грудой одеял — в их квартирке на Куин-стрит-Вест (как раз над бывшей скобяной лавкой, а теперь там шикарный магазин для рукоделия, и квартплата растет): он спит на животе, раскинув руки, а на полу — там, где он их бросил, — его синие носки, один за другим, будто стопы, из которых выпустили воздух, или следы, ведущие к кровати. И даже по утрам он просыпался медленно, рылся на кухне, искал кофе, хотя она уже сварила. Настоящий кофе — маленькая роскошь, которую они себе позволяют. Она уже давно вставала к тому времени и горбилась над кухонным столом — писала. Она вгрызалась в слова, кромсала фразы. Губами, с которых еще не отлетел сон, он касался ее губ и порой тащил ее в ванную или в спальню, на кровать — в лужу плоти, его рот скользил по ее телу, пушистое вожделение, одеяло смыкалось над ними, они проваливались в невесомость. Он давно уже перестал так делать. Просыпался все раньше и раньше. А она валялась все дольше и дольше. Исчезли радость, зуд, порыв — глотнуть холодный утренний воздух и строчить, строчить в блокноте, стучать, стучать на машинке. А теперь Берни просыпался, а она заворачивалась в одеяло, зарывалась в норку, нежилась в шерстяном тепле. Ей казалось, ничто не ждет ее за пределами кровати. Не пустота, а просто ничто, нолик на ножках из учебника арифметики.
— Я пошел, — говорил он, а она вроде уже и не спала, но ей лень было поворачиваться. А потом он уходил, и она снова погружалась во влажную дрему. Его отсутствие — лишний повод не вставать. Он уходил в “Записки из подполья” и долго не возвращался. Он радовался, дела шли хорошо, им устроили несколько интервью для газет, и Джулия знала, что можно быть популярным и при этом не зарабатывать денег — такая же история произошла с ее книгой. Только жаль, что он уже почти не писал картин. Он так и не закончил свою последнюю картину, в стиле магического реализма. Неужели это Джулия? Сидит на кухне, закутавшись в плед, притащила его из комнаты: волосы схвачены сзади в неопрятный пучок, — сидит, как жертва неурожая. Зря выбрали сюда желтые обои, господи, какая же она зеленая. Картину он так и не дописал. Бумажная работа, он так это называет. У него теперь в галерее одна бумажная работа, и еще он на телефонные звонки отвечает. Их там три художника, дежурят по очереди, он — до двенадцати, но все равно задерживается. К галерее присоединились несколько художников помоложе, они рассиживают там, попивая “Нескафе” из пластиковых стаканчиков, баночное пиво, спорят — дает ли покупка право выставляться и следует ли брать комиссионные, а если нет, то как выжить. Они рожают всевозможные планы, а недавно наняли девушку по связям с общественностью, чтобы занималась постерами и почтой и общалась с прессой. Девушка была “приходящей” и сотрудничала еще с двумя небольшими галереями и с одним коммерческим фотохудожником. Она еще только разворачивается, говорил Берни. Обещала, что дела пойдут в гору. Звали девушку Марика, Джулия прежде встречалась с ней в галерее, в те времена, когда еще заскакивала туда днем. Как же это было давно.
Марика была блондинкой, с щеками цвета персика, года двадцать два или двадцать три, моложе Джулии на пять лет, на шесть, не больше. Марика, редкое имя, может, венгерское: но Марика говорила с четким онтарийским акцентом, и фамилия у нее была Хант. Может, у нее мать с богатым воображением или отец любит переиначивать имена, а может, Марика сама взяла себе новое имя. У них произошел тогда очень любезный разговор.
— Я прочитала вашу книгу, — сказала Марика. — Мне жалко времени на книги, но вашу взяла в библиотеке, потому что знакома с Берни. Я не думала, что мне понравится. А неплохо, знаете.
Джулия была очень благодарна, Берни говаривал, что слишком уж благодарна — тем людям, которым нравилось ее творчество или которые хотя бы ее читали. И тем не менее на этот комплимент внутренний голос ее произнес: отвали. Марикин тон: так собаке дают печенье — заслужила, на, хорошая собака, отстань, снисходительно так.
После того случая они еще несколько раз вдвоем пили кофе. Марика забегала к ним домой с поручением или просьбой от Берни. Они сидели на кухне и разговаривали, но особой дружбы не получалось. Они были как две мамаши на детском дне рождения, что сидят в сторонке, пока дети весело галдят и объедаются. Вроде все вежливо, но каждый думает о своем. Как-то Марика сказала:
— Мне всегда казалось, что, возможно, и мне понравится писать. — Джулия ощутила в затылке маленькую красную вспышку и чуть было не швырнула в Марику чашку с кофе, а потом поняла, что та не имела в виду ничего особенного, просто дежурный разговор. — Вы не боитесь, что жизненный материал закончится?
— Скорее уж силы, — отшутилась Джулия. Но Марика права: Джулия действительно боялась. Что одно потащит за собой другое. — Эйнштейн, — прибавила потом она, а Марика не уловила связи, посмотрела странно и перевела разговор на кино.