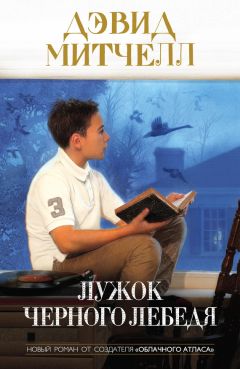Никого. Может, она вышла погулять?
На прошлой неделе дворецкий пришел быстрее.
Я забарабанил дверным молотком, уверенный, что все напрасно.
Я ехал сюда на велосипеде, крутя педали как бешеный, потому что опаздывал на полчаса. Надо полагать, мадам Кроммелинк — истинный фельдмаршал в вопросах пунктуальности. Похоже, все мои труды были напрасны. Я взял в школьной библиотеке «Старик и море» Хемингуэя — только потому, что мадам Кроммелинк упомянула его имя. (Во вступлении к книге было написано, что, когда эту книгу читали по радио, она доводила американцев до слез. Оказалось, она про то, как какой-то старик поймал гигантскую сардину. Если американцы от такого плачут, они заплачут над чем угодно.) Я растер лаванду в ладонях и понюхал. Лаванда — мой любимый запах, после белой замазки для ошибок и жареной беконной шкурки. Я сел на ступеньку, не очень понимая, куда теперь идти.
Мне в лицо зевали июльские послеполуденные часы.
Когда я сюда ехал, лужицы-миражи дрожали на Велландской дороге.
Я мог бы уснуть на запеченной солнцем ступеньке.
Маленькие голые муравьи.
* * *
Отодвинулась задвижка, словно из винтовки выстрелили, и дверь открыл старый дворецкий.
— Вы вернулись за следующей порцией, — сегодня на нем было джерси для игры в гольф. — Можете снять обувь.
— Спасибо.
Пока я стаскивал кроссовки, до меня доносились звуки пианино, потом тихо вступила скрипка. Я надеялся, что это не гости у мадам Кроммелинк. Что три человека, что сто — одинаково плохо. Лестница нуждалась в починке. Ветхая синяя гитара лежала на сломанной табуретке. В аляповатой рамке женщина, при взгляде на которую становилось холодно, разлеглась на лодке в заросшем пруду. Дворецкий снова повел меня в солярий. (Я посмотрел в словаре слово «солярий». Оно просто значит «комната, где много воздуха».) Мы прошли через вереницу дверей, и я начал думать о разных комнатах из своего прошлого и будущего. Больничная палата, в которой я родился, классы, тенты, церкви, конторы, отели, музеи, дома престарелых и комната, в которой я умру. (Интересно, ее уже построили?) Машины — это комнаты. Леса тоже. Небо — потолок. Расстояния — стены. Матки — комнаты из тел матерей. Могилы — комнаты из земли.
Музыка росла.
* * *
Угол солярия занимал жюль-верновский хай-фай, весь в серебристых круглых верньерах и циферблатах. Мадам Кроммелинк сидела на своем плетеном троне, с закрытыми глазами, и слушала. Как будто музыка — это теплая ванна. (На этот раз я знал, что она заговорит со мной чуть погодя, и просто присел на диван без подлокотников.) Играла пластинка — что-то из классики. Но совсем не похоже на «рамти-там-там», которое обычно ставит мистер Кемпси на уроках музыки. Эта музыка была ревнивой и сладкой, рыдающей и роскошной, мутной и кристальной. Но если бы ее можно было правильно описать словами, не нужно было бы ее сочинять.
Пианино исчезло. К скрипке присоединилась флейта.
На письменном столе Евы Кроммелинк лежало незаконченное письмо, длиннющее, во много страниц. Должно быть, она не знала, что писать дальше, и тогда поставила пластинку. Толстая серебряная ручка лежала на странице, где мадам Кроммелинк перестала писать. Я подавил в себе желание убрать эту ручку с бумаги и прочитать недописанное.
* * *
Звукосниматель щелкнул, возвращаясь на место.
— Неутешное так утешительно, — сказала мадам Кроммелинк. Судя по лицу, она была не слишком рада меня видеть. — Что это за объявление у вас на груди?
— Какое объявление?
— Это объявление, у вас на свитере!
— Это свитер Ливерпульского футбольного клуба. Я за него болею с пяти лет.
— Что означает «HITACHI»?
— Футбольная ассоциация изменила правила, так что футбольные команды могут носить логотипы спонсоров. «HITACHI» — фирма, которая производит электронику. Она расположена, кажется, в Гонконге.
— Значит, вы платите организации, чтобы носить ее рекламу? Allons donc. В одежде и в кухне англичан обуревает непобедимое желание себя уродовать. Но сегодня вы опоздали.
Рассказывать все подробности истории с мистером Блейком было бы слишком долго. Папа и мама (и Джулия, если у нее злобное настроение) столько раз говорили: «Ну ладно, не будем больше поминать старое», и через пять минут снова выкапывали эту тему, что я уже и счет потерял. Поэтому я лишь сказал мадам Кроммелинк, что вынужден месяц подряд мыть посуду, чтобы расплатиться за одну разбитую мною вещь, а сегодня обед задержался, потому что мама забыла разморозить баранью ногу.
Я не успел закончить объяснение, а мадам Кроммелинк уже заскучала. Она показала на бутылку вина, стоящую на перламутровом столике.
— Сегодня вы пить?
— Мне разрешают только капельку, по особым случаям.
— Ну, если аудиенцию у меня вы не считаете особым случаем, налейте мой бокал.
(Белое вино пахнет яблоками «гренни смит», ледяным метиловым спиртом и крохотными цветочками.)
— Всегда наливайте так, чтобы этикетка была видна! Если вино хорошее, то ваш пьющий должен об этом знать. А если плохое, вы заслуживаете стыда.
Я повиновался. Капелька вина стекла по горлышку снаружи.
— Так. Узнаю ли я сегодня ваше настоящее имя или буду по-прежнему принимать у себя незнакомца, который прячется под нелепым псевдонимом?
* * *
Висельник мне даже «Простите» не давал сказать. Но я так распалился, отчаялся и разозлился, что все равно бухнул «Простите!», но так громко, что это прозвучало ужасно грубо.
— Ваше элегантное извинение не отвечает на мой вопрос.
— Джейсон Тейлор, — пробормотал я, и мне захотелось плакать.
— Джей-что? Произносите четко! Мои уши так же стары, как я сама! У меня нет спрятанных микрофонов, которые собирали бы каждое слово!
Я ненавидел свое имя.
— Джейсон Тейлор.
Оно безвкусное, как жеваные магазинные чеки.
— Если вас зовут Адольф Гроб или Пий Шваброцефал, я постигаю. Но зачем прятать «Джейсона Тейлора» за недоступным символистом и латиноамериканским революционером?
Наверно, у меня на лице было написано: «А?!»
— Элиот! Т.С.! Боливар! Симон!
— Мне показалось, что «Элиот Боливар» звучит… поэтичнее.
— Что может быть поэтичнее имени Джейсон? Это Язон — герой эллинских мифов! Кто обосновал европейскую литературу, если не древние греки? Уж точно не кружок грабителей могил с Элиотом во главе! А кто есть поэт, если не портной,[38] сшивающий слова? Поэты и портные соединяют то, что никто другой соединить не в силах. Поэты и портные прячут свое мастерство в своем мастерстве. Нет, я не принимаю вашего ответа. Я полагаю, истина заключается в том, что вы используете псевдоним, так как поэзия для вас — постыдная тайна. Я права?
— Постыдная — не совсем точное слово.
— А какое же слово — совсем точное?
— Писать стихи — это… — я шарил глазами по солярию, но у мадам Кроммелинк взгляд как захватный луч, — это… вроде как… для голубых.
— Для голубых? Голубое небо?
Безнадежно.
— Стихи пишут… только ботаны и лохи.
— Так вы один из этих… ботанов?
— Нет.
— Значит, вы один из лохов, хоть я и не знаю, кто они такие?
— Нет!
— Тогда ваша логика мне совершенно непонятна.
— Если у человека отец — знаменитый композитор, а мать — аристократка, ему позволено гораздо больше, чем тому, кто учится в государственной школе и у кого папа работает в компании розничной торговли. В частности, писать стихи.
— Ага! Истина! Вы боитесь, что волосатые варвары не примут вас в племя, если вы пишете стихи.
— Да, более или менее.
— Так более? Или менее? Какое слово — совсем точное?
(Вот же прицепилась.)
— Это верно. Именно так и есть.
— И вы желаете стать волосатым варваром?
— Я мальчик. Мне тринадцать лет. Вы сами сказали, что тринадцать лет — мучительный возраст, и это правда. Если ты не такой, как все, твоя жизнь становится адом. Так случилось с Флойдом Чейсли и Бестом Руссо.
— Вот теперь вы заговорили как настоящий поэт.
— Я ничего не понимаю, когда вы такое говорите!
(Мама бы отрезала: «Не смейте со мной разговаривать таким тоном!»)
— Я хочу сказать, — вид у мадам Кроммелинк был почти довольный, — вы полностью стоите за своими словами.
— А это еще что значит?
— Вы сущностно правдивы.
— Кто угодно может говорить правду.
— О поверхностностях, Джейсон, да, это есть верно. О боли, нет, это не есть верно. Значит, вы хотите двойную жизнь. Один Джейсон Тейлор, который ищет успеха у волосатых варваров. Другой Джейсон Тейлор — это Элиот Боливар, который ищет успеха в литературном мире.
— И это так уж невозможно?
— Если вы желаете быть версификатором, — она водоворотнула вино в бокале, — весьма возможно. Если вы подлинный художник, — она пошвыркала вином во рту, — абсолютно никогда. Если вы не правдивы перед миром в том, кто и что вы есть, ваше искусство будет вонять фальшами.