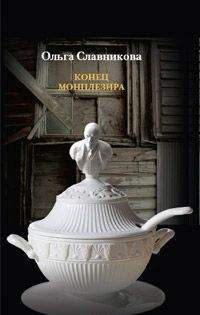Нине Александровне следовало пойти за ней – если не предотвратить скандальный монолог, то по крайней мере при этом присутствовать. Но тут она впервые ощутила, как это бывает, когда физическая боль не дает подняться с места. На лямке, перехватившей левое плечо, словно висел какой-то неподъемный груз, и всякая попытка Нины Александровны встать на перекошенные ноги приводила лишь к тому, что в голове становилось туго, радужно и звонко, как бывает от удара в крепко надутом мяче. Так значит, Марину будут судить. Конечно, она не брала. Все обязательно разъяснится, надо только немного посидеть и потом вставать. Внезапно до Нины Александровны донесся крик – и даже не крик, а ликующий вопль, прерываемый хватанием самостоятельно лепечущего, как бы горячего воздуха, но даже и на вдохе продолжавшийся какими-то нечеловеческими звуками, похожими на полые вибрации водопровода. В первую минуту Нина Александровна подумала, что это кричит она сама, обеими руками зажимая уши, в которых шуршали пузыри. Тут же она сообразила, что крик идет из комнаты парализованного, и вскочила на легкие ноги, точно молоденькая.
Коридор уводил в непривычную сторону, точно Нина Александровна бежала по вагону поезда, круто забирающего в поворот, и, спеша по ходу состава на легких ногах, необъяснимо отставала от скорости движения, внезапно бросившей ее на столик и тихо загудевший телефон. Наконец она разминулась с приоткрытой дверью, попытавшейся увести ее куда-то вбок, и увидала картину, которая за секунду до этого словно бы уже стояла у нее в голове. Кричала неузнаваемая Клумба. Она уже почти обессилела, рот ее, тянувший воздух, был разинут в каком-то идиотическом изумлении, глаза, беспокойные и мутные, будто вода в стаканчике, где только что отполоскали акварельную кисть, не отрываясь глядели на Алексея Афанасьевича, лежавшего совершенно неподвижно в свободно наброшенной петле. С лица ветерана, странно тяжелого, с запавшими глазницами, очень быстро сбегали живые краски. Несмотря на то, что веревка не успела затянуться и, просмоленная, топорщилась у подбородка, Нина Александровна вдруг осознала, что в близоруко расплывшемся облике мужа она не видит водяного знака, означающего жизнь. Моментально она оказалась у постели и откинула одеяло, с которого соскочила, шмякнувшись об пол с ушибленным писком, резиновая дряблая игрушка. Приложив трясущуюся руку туда, где всегда стучало, отбивая два простейших такта, безотказное сердце разведчика, Нина Александровна не услыхала ничего – только какая-то последняя мятная боль, лизнув ладонь, растаяла в пустоте.
Если бы в ближайшие несколько минут некто посторонний (не Клумба, со стоном осевшая на пол) наблюдал за комнатой, скажем, с небес, он с удивлением увидал бы растрепанную старуху, вакхически скачущую, расставив заголившиеся сизые колени, на длинном старике, время от времени припадая к его ощеренному рту. Нина Александровна не знала правил искусственного дыхания и массажа сердца; она нажимала на скользкую корзину ребер с той же самой отчаянной силой, с какой прокачивала вантузом засорившиеся трубы. Через несколько нажимов – у нее не получалось их считать – она вдувала в серый, вязкий рот, уже прилипающий к твердым зубам, горячий, уходивший куда-то за щеку ветерана, воздушный пузырь. Чем больше сил она прикладывала, тем яснее чувствовала, что они с Алексеем Афанасьевичем сообщающиеся сосуды и что самая тугая пробка у нее в голове. Наконец ей сделалось понятно, что затор не пробить. Медленно Нина Александровна перевалилась набок и прилегла на мужнину подушку, очень близко глядя на обтянувшийся профиль, на неизвестного происхождения тверденький шрамик, белевший на шее ветерана, на резкую морщину под свесившимся клоком седины, словно там была подчеркнутая ногтем важная строка. Все это, бесконечно дорогое, уже исчезало, истаивало, становилось прошлым. Осторожно придерживая голову, ставшую тяжелой и твердой, будто заполненный сокровищем запечатанный сосуд, Нина Александровна сняла непригодившуюся петлю. Стало быть, искусственная смерть не состоялась. Тут она услышала, как женщина, избавившая ветерана от самоубийства, неловко возится где-то на полу и, побрыкивая мягкими ногами, пытается сесть.
“Дайте попить”,– тихо просипела Клумба одряблыми связками, забираясь, будто толстый, в разные стороны вывернутый кузнечик, на кресло с вязаньем и спицами. Возле кровати стоял, чтобы Алексею Афанасьевичу запивать лекарство, граненый стакан с кипяченой водой; Нина Александровна кое-как оправила задравшийся халат и поднесла стакан, еще хранивший как бы слабый раствор исчезнувшей жизни, этому странному, полулежавшему в кресле существу. Вместо того чтобы взять принесенное, Клумба больно ухватила руку Нины Александровны и принялась выпускать в наклонную воду молочную мягкую муть. Собственно говоря, это была уже не Клумба. Ее небольшие симметричные глаза, ставшие какими-то нечеловечески одинаковыми (левый и правый можно было безо всяких нарушений поменять местами), смотрели так, словно видели несколько слоев окружающих вещей. Черты ее странно разгладились, сбитые кудряшки, которые она причесывала застревающими пальцами, словно делала это впервые в жизни, походили на парик.
Нине Александровне стало уже почти понятно, что произошло. Для того чтобы умер бессмертный, требовалась причина – и она заключалась не только в трансляции из кухни. Видимо, сердце Алексея Афанасьевича было не такое крепкое, как все привыкли думать; должно быть, попытки забраться в петлю (а эти просмоленные шнурки, появлявшиеся на спинке кровати неизвестно откуда, несомненно, содержали смерть) изрядно поизносили бренный двухтактный механизм. Вероятно, когда Алексей Афанасьевич предельно сокращал миллиметры, отделявшие его от последней границы, сердце его, которое было все же человеческим, давало болезненный сбой. Сегодня, когда совпало: неожиданно ухваченное пальцами послушание верного инструмента, близость красавицы в капюшоне, посмотревшей на него не искоса, как когда-то при веселой бенгальской трескотне немецкого пулемета, а прямо в глаза, внезапное открытие какой-то иной, безобразной реальности, которую ветеран уже не мог присоединить к своей доподлинной жизни, где он всегда и навечно живой,– по сердцу его хлестнула жгучая крапива. Женский крик, исходивший от смутного существа, не похожего ни на падчерицу, ни на спокойную жену, всегда предупреждавшую о своем появлении светящимся посланием бесхитростного мозга, подтолкнул и завершил адреналиновый прыжок в небытие.
Но это была еще не вся картина. Оставалась последняя, почти невероятная случайность, без которой ветеран не смог бы преодолеть отделявшую его от смерти резиновую стенку и пройти в единственное, оставленное ему судьбой игольное ушко. В первый момент, когда взбудораженная Клумба увидала “дедушку” в петле и готовым к отправке в райские кущи, вопль ее был истерикой общественницы, в уме которой символы и “литература” очень плохо совпадали с реальностью, вдруг объявившей Клумбе несправедливую войну. Однако механизм чужого умирания, уже запущенный и сделавший какой-то пробный оборот, вдруг отозвался в ней неотвратимым накатом резкой и огромной темноты – и дальше все пошло как по маслу, не стало больше никаких препятствий к тому, чтобы Алексей Афанасьевич умер. Редкий, благословенный дар ощущать на себе сделал Клумбу (а она была уже не Клумба) последней помощницей бессмертному, каким-то образом ее утробное осознание происходящего помогло ветерану сохранить свою доподлинность до самого последнего момента и в целости перейти туда, где его встречали заждавшийся Бог и военный оркестр. Теперь трясущаяся женщина, которую вода из стакана захлестывала, как захлестывает пляшущая рябь неловкого пловца, была, возможно, единственным на свете человеком, который еще при жизни сподобился знания, что же такое смерть. Наконец она вытянула шею как бы над поверхностью ряби и сделала глоток. “Он умер”,– сказала женщина, отдышавшись. “Да, я знаю”,– ответила Нина Александровна, вытирая женщине лицо и промокшую грудь, на которой блестели подобно росе хрустальные капли слюны. Теперь она понимала, что все хорошо. Неподвижные глаза Алексея Афанасьевича, замутненные белым порошком бессмертия, смотрели в потолок; Нина Александровна, стараясь не нажимать, закрыла мужу вязкие, не до конца сомкнувшиеся веки, на пальцах ее осталось совсем немного холодной щекочущей влаги.
Тонкая белая пыль еще держалась кое-где в оголившейся комнате – на полу под трофейной кроватью, на металлической рамке казенного портрета, где орденоносный Брежнев был наполовину скрыт горящим отблеском в разломанном стекле, зато внезапно сделалось заметно, как пожелтел и высох за эти годы добротный советский картон. Еще немного пыли было в солнечном луче, она слоилась там, сухая и белесая, будто крепкий дым простого табака. Для того, чтобы все предстало таким, какое оно есть в действительности, скромным участникам этой истории оставалось узнать лишь несколько вещей. Это касалось утраченной пенсии, погибшего племянника, кое-чего еще. Что же до Алексея Афанасьевича, то он уже узнал гораздо больше, чем Нина Александровна могла ему поведать в человеческих словах, и потому в прощении его сомневаться не приходилось; буквально во всем ощущалось его незримое присутствие.