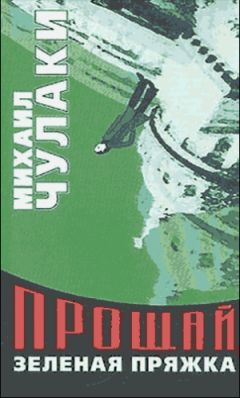Вот так. Ну что ж, обычное дело — попытка реально объяснить прошлый бред. Да, ремиссия получилась невысокого качества, нужно ждать скорого рецидива. Да уже и резонерствует, так что прогноз неважный.
— Ну ладно, ладно, скоро вас выпишем, а математикой, если не хотите, можете больше не заниматься.
— Иди в медицинский, как я, — сказала Ирина Федоровна. — Меня Привес провалил на физколлоидной, а я все равно все формулы знаю.
Подошла маленькая Неуемова, посмотрела, как всегда, испуганными глазами:
— Виталий Сергеевич, пощупайте, какой у меня сегодня пульс частый! Это опять приступ порока сердца.
Виталий не стал бы, конечно, читать ей медицинских лекций, но услышала стоявшая недалеко Капитолина и не выдержала:
— Ну что ты говоришь! Не может быть приступа порока! Порок — это анатомический дефект! Все равно что человек без руки сказал бы, что у него приступ однорукости. И после этого говоришь, что у тебя не бред!
— У меня на самом деле порок сердца, — тихо сказала Неуемова.
Виталий пошел дальше поскорей. На кровати с довольным видом сидела Сивкова и ела апельсин.
— Здравствуйте, Тамара. Опять вам Маргарита Львовна дала?
— Опять. Я ее очень люблю, Виталий Сергеевич. А вы любите?
— Люблю, Тамара, люблю. А как дядя Костя в голове?
— Ушел дядя Костя.
— Обманываете опять, наверное. Вы же мужчин всегда обманываете.
— Мужчин всегда обманываю, но дядя Костя правда ушел.
— Так обманываете или правда?
— Обманываю, но правда, что ушел.
Виталий махнул рукой и отошел.
В надзорке дежурила Маргарита Львовна.
— Все в порядке, Виталий Сергеевич. Меньшикова спокойна. Вон, мечтает.
Меньшикова и в самом деле сидела у окна в самой мечтательной позе.
— Здравствуйте, Галина Дмитриевна.
— Здравствуйте. Везут в дом гостей, а хозяйку в надзорке заперли.
— Галина Дмитриевна, а может, вам здесь и спокойнее? Здесь вы не боитесь, что кто-нибудь зарежет.
— Не боюсь. А знаете, когда страшно, тоже хорошо. Так страшно, что в животе холодно. Я бы хотела на обрыве постоять или на башне. К краю подойти, вниз наклониться — и чтобы страшно, и чтобы холодно. Я бы, может, и прыгать бы не стала, не знаю. А чтобы страшно. А может, и прыгнула бы когда-нибудь. Не знаю.
Виталий тоже не знал — не знал, что с нею делать. Взглянула из своих владений Мария Андреевна.
— Что-то больных ко мне не посылаете, Виталий Сергеевич.
— Правда, Мария Андреевна, что-то разленился я. Ничего, наверстаю.
— Смотрите, а потом захотите, а у меня мест не будет.
— Если бы все по плану! А то ведь больные когда поступают, не интересуются, есть у вас в инсулиновой места или нет.
— Надо их воспитывать.
— Хорошо бы. Да не умею пока.
Вера сидела в четвертой все с тем же Фалладой в руках. Виталий уселся рядом, улыбнулся.
— Здравствуй.
— Здравствуйте, Виталий Сергеевич.
— Все хорошо?
— Да. А помните, вы мне говорили про отпуск?
— Помню. Но теперь нет смысла. Чего ж тебе в воскресенье в отпуск, если мы тебя в понедельник просто выпишем.
— Уже в понедельник?
— Да. А чего тянуть? Ты рада?
— Конечно.
Но в голосе ее послышалось сомнение. Она словно чего-то ждала. Но Виталий не мог сейчас с нею разговаривать всерьез. Он ясно почувствовал, что ему самому нужно сначала многое обдумать.
— Вот и хорошо, что рада. Ну, я еще буду напутствовать, а пока уж поскучай два дня. В субботу и воскресенье не выписываем, такая уж бюрократия.
Он снова улыбнулся — чуть виновато, — вскочил и побежал в обход дальше.
В ординаторской, когда вернулись из обхода, Капитолина сказала недовольно:
— Надо что-то решать с Меньшиковой, Виталий Сергеевич. Вы напрасно тянете, нужно ее оформлять в Кащенко. Перспектив никаких, только койко-день нам портит. И не можем же мы ее все время держать в надзорке. А вывести — опять чего-нибудь выкинет, ведь правда? Правда! Так что оформляйте ее, Виталий Сергеевич, оформляйте. А в Кащенко таким и самим лучше: больше на воздухе, работают в саду, в огороде.
Капитолина уговаривала, как будто Виталий возражал. А он вовсе не возражал, просто это хлопотная история — оформлять в Кащенко, вот он и откладывал со дня на день.
Откладывал со дня на день, потому что каждый день много хлопот. А результат? Вот Костина выписывается с формальной критикой, того и гляди снова поступит. Вот Прокопович уже поступила снова. Кстати, а почему он во время обхода не видел Прокопович? И не вспомнил сразу, не тем голова занята.
Виталий позвонил в сестринскую:
— А где Прокопович, скажите, пожалуйста?
— Пошла белье относить. Вам ее прислать, когда вернется, Виталий Сергеевич?
Ничего нового она ему не скажет.
— Нет, не нужно.
Да, так Прокопович поступила снова, процесс очень прогрессирует, а что он может сделать? Ничего. Про таких старых хроников, как Либих или Меньшикова, нечего и говорить.
Сегодня ему даже не объявили выговора. Может продолжать работать, окрыленный доверием. А честно ли это? Честно ли работать, когда не очень веришь, что приносишь пользу? Ах, он не заблуждается на свой счет, знает себе цену — ну и во что выливается это знание? В бессильное брюзжание. Не лучше ли переоценивать себя, но быть уверенным, что приносишь пользу, что необходим?
Виталий недоволен собой, хотя все-таки лечит, все-таки у него и нейролептики во главе с аминазином, антидепрессанты, тот же инсулин — перенесись чудом на его место врач времен знаменитого Шарко, времен того же Кандинского, который работал в этих же стенах — этот врач был бы счастлив, считал бы себя всемогущим! А как работали старые врачи, не имевшие фактически никаких лекарств? Бессильно смотревшие, как прогрессирует паралич, от которого теперь остались одни воспоминания? Чем они были полезнее безграмотных больничных служителей? А ведь они считали, что приносят пользу! Виталий их решительно не понимал. Но выходит, что некоторая ограниченность — старым врачам, безусловно, свойственная — только полезна, потому что побуждает к действию, а всепонимающий скепсис бесплоден? И старые врачи, не имея никаких путных лекарств, приносили пользу своей верой, своей энергией. И если бы Виталий тот же аминазин и тот же инсулин давал с большей уверенностью в их могуществе, может быть, и результаты оказались бы лучше? И уж раз он твердо уверен, что прогресс в психиатрии может наступить только в результате революционных открытий в биохимии, генетике, может быть, вирусологии, зачем же он здесь? Почему сам не занимается генетикой или биохимией?! А здесь пусть лечат те, кто верит, что приносит пользу, и благословим необходимую для такой веры каплю наивности! Наверное, это самое честное — уйти и начать все сначала где-нибудь в институте генетики. И может быть, при его участии удастся установить, что у части больных шизофренией имеется дефект, скажем, в третьей хромомере девятнадцатой хромосомы наследуемый рецессивно, а у других заболевание вызывается нейротропным вирусом, поражающим только клетки Пуркинье лобных долей? Вполне может быть!
Да, дефект в третьей хромомере девятнадцатой хромосомы или в какой-нибудь другой. Вполне может быть. И у Веры Сахаровой тоже. Себе он признался в этом окончательно в тот момент, когда солгал ей там, в оранжерее. Солгал уверенно и убедительно и правильно сделал: Вере не выдержать такого страшного груза — страха перед поселившейся в ней болезнью! А он способен выдержать такой груз? Способен он каждый день врачебным взглядом присматриваться к жене, тревожно выискивая у нее малейшие начальные симптомы? А потом точно так же — только с еще большим страхом — к детям?
Кто-нибудь вообще на это способен — смотреть на любимых людей беспристрастным врачебным взглядом?!
И вот настал понедельник. Настал день выписки Веры Сахаровой.
Виталий писал эпикриз, коротко объяснял, что случилось с Верой до больницы и уже здесь, описывал проделанное лечение, обосновывал официальный диагноз, в который сам больше не верил; благополучный ревматический психоз. То-то подивится его наивности следующий врач, если Вера снова попадет на Пряжку. Да, следующий врач, потому что Виталий твердо решил сбежать в биохимию, в генетику, туда, где делается настоящая наука.
Он писал и знал, что сейчас Вера зайдет прощаться. Он знал гораздо больше: она верит, что прощается только с больницей — не с ним.
А как бы хорошо сказать ей:
«Ну, зайду завтра или послезавтра, посмотрю, как ты дома!»
А она бы в ответ кивнула, молча и благодарно. Нет, молча и счастливо.
Да, она ждет, что он так скажет, ждет, что отныне он будет управлять ее жизнью: «Вера, тебе пора сходить в театр, испытать, как ты перенесешь трагедию… Вера, тебе пора поехать в горы, испытать, как перенесешь мощное горное солнце… Вера, тебе пора полюбить…» И он все время будет рядом, все время страховать на случай срыва. Да-да, все время рядом, все время с нею. Ведь что такое любовь, если не взаимная страховка от жизненных ударов?