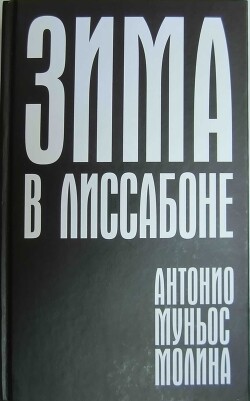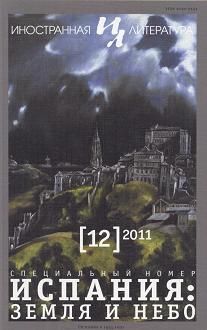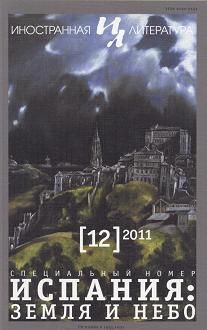— Она придет сегодня? — Билли Сван повернулся к Биральбо медленно и устало, так же, как говорил: за каждым его словом стояла своя история.
— Она уехала, — ответил Биральбо.
— Куда? — Билли Сван глотнул сока с выражением отвращения и покорности, чуть ли не с ностальгией.
— Не знаю, — сказал Биральбо. — Я хотел, чтобы она уехала.
— Она вернется. — Билли протянул руку, Биральбо помог ему подняться и почувствовал, что тот почти невесом.
— Девять, — сказал Оскар. — Пора выходить. — Очень близко, за сценой, слышался гул толпы. Этот звук пугал Биральбо, как рокот моря в темноте.
— Я сорок лет зарабатываю этим на жизнь. — Билли Сван шел, опираясь на локоть Биральбо и крепко, будто боясь потерять, прижимая трубу к груди. — Но до сих пор не понимаю, ни зачем они приходят нас слушать, ни зачем мы им играем.
— Мы играем не им, Билли, — возразил Оскар. Все четверо, вместе с ударником, блондинистым французом Баби, стояли в конце коридора у занавеса, свет со сцены уже озарял их лица.
У Биральбо пересохло во рту и вспотели руки. Из-за занавеса слышались голоса и свист. «На сцену такого театра выходишь как на арену цирка, — сказал он как-то. — Благодаришь судьбу, что первым на растерзание львам пойдешь не ты, а кто-то другой». В тот раз первым вышел Баби, ударник. Смотря в пол и улыбаясь, он двигался быстро и осторожно, как ночное животное, и ритмично постукивал себя по ляжкам, обтянутым джинсами. За ним появился толстяк Оскар, покачиваясь и с выражением равнодушного презрения на лице. Контрабас и ударные уже звучали, когда на сцену ступил Биральбо. Его ослепили софиты, круглые желтые шары за стеклами очков, но он видел лишь полосатую белизну длинной клавиатуры — положить обе руки на нее было все равно как потерпевшему кораблекрушение схватиться за последнюю доску. Трусливо и неловко он начал одну очень старую песню, смотря на свои напряженные белые пальцы, будто бежавшие от чего-то. Баби ударил по барабанам с такой мощью, с какой рушатся высокие стены, потом круговым движением погладил тарелки, и наступила тишина. Биральбо видел, как Билли Сван проходит мимо и останавливается у самого края сцены — он почти не отрывал ног от пола, словно шел на ощупь или боялся разбудить кого-то. Билли поднял трубу. Поднес мундштук к губам. Закрыл глаза. Лицо у него сделалось красное и напряженное, хотя играть он еще не начал. Казалось, он готовится получить удар. Стоя спиной к остальным музыкантам, он сделал знак рукой — вроде того, как гладят домашних животных. Биральбо содрогнулся от священного чувства неизбежности. Он взглянул на Оскара: тот стоял закрыв глаза и подавшись вперед, левая рука спокойно лежит на грифе контрабаса, дыша жадным ожиданием и вселенским знанием. Биральбо показалось тогда, что он слышит какой-то немыслимый толи голос, то ли шепот, что он снова видит тот поразительный пейзаж с сиреневой горой, дорогой и домом, затерявшимся средь деревьев. Потом он рассказывал мне, что в тот вечер Билли Сван играл даже не им, свидетелям и сообщникам его деяний, а самому себе, темноте и тишине, сумрачным фигурам без черт, которые лишь слегка колыхались за световым занавесом, глазам, ушам и ритмично стучащим ничейным сердцам, спокойной бездне лиц, подойти к краю которой осмеливался только он, вооруженный трубой, или даже безоружный — он обращался с инструментом так, будто его вовсе не существовало. Он, Биральбо, хотел вести за собой остальных, следуя за трубачом, приближаться к нему, такому одинокому и далекому, стоящему к ним спиной, обволакивать его жарким и мощным потоком, которому Билли Сван, казалось, ненадолго подчинился, как будто его задержала усталость, от которой он потом бежал, как от лжи или от смирения, потому что, возможно, музыка, которую они играли, была ложью и трусостью: как животное, чувствующее, что преследователи не смогут догнать его, он внезапно менял направление бега и притворялся, будто оторвался от погони и немного успокоился, что принюхивается к воздуху, очерчивая своей мелодией неслышную линию, которая окружала его стеклянным колоколом, и создавая свое собственное, только ему принадлежащее, отдельное время где-то внутри времени, подчиненного остальным.
Поднимая взгляд от фортепиано, Биральбо видел его красноватый напряженный профиль и плотно зажмуренные, похожие на двойной шрам веки. Музыканты уже не могли следовать за ним и разбрелись кто куда, каждый из троих основательно заплутал во время погони, и только Оскар продолжал дергать струны контрабаса с настойчивостью, чуждой всякому ритму, не желая сдаваться на милость тишине и непреодолимому расстоянию, отделявшему его от Билли Свана. Через несколько минут руки Оскара тоже замерли. Тогда Билли Сван отнял трубу от губ, и Биральбо подумалось, что прошел уже не один час и концерт пора заканчивать, но никто не аплодировал, не было слышно ни шепота в застигнутой врасплох темноте, где еще не затихла последняя высокая нота. Билли Сван, поднеся микрофон так близко к губам, что четко слышались тяжелые отголоски его дыхания, пел. Я не знаю, как он пел, его пение я слышал только в записи, но Биральбо говорил, что мне даже не представить, как звучал его голос в тот вечер: это было лишенное музыки бормотание, медленная литургия, странная молитва, одновременно грубая и нежная, дикая и глубокая, приглушенная, будто услышать ее можно было только прильнув ухом к земле. Биральбо поднял руки, провел по клавиатуре, будто ища зазор в тишине, и начал играть, как слепой, ведомый лишь голосом, но полностью принятый им. Он вдруг представил себе, что Лукреция где-то во мраке слушает это и может оценить, но даже и это не было важно, важен был лишь легкий гипноз голоса, который наконец указал ему его предназначение, ясное и единственное оправдание его существования, объяснение всего, чего бы он сам никогда не понял, бесполезность страха, право на гордость и на темную уверенность в чем-то, что не было ни страданием, ни счастьем, но неизъяснимым образом содержало и то, и другое, а еще — давнюю любовь к Лукреции, трехлетнее одиночество и узнавание друг друга на рассвете, в доме у обрыва. Теперь он видел все это в бесстрастном и исступленном свете, какой бывает холодным зимним утром на улицах Лиссабона или Сан-Себастьяна. Будто внезапно проснувшись, он понял, что больше не слышит голоса Билли Свана — Биральбо играл один, а Оскар с ударником глядели на него. Рядом с пианино, перед ним, стоял Билли Сван: он протирал стекла очков и размеренно постукивал ногой по полу и покачивал головой, словно соглашаясь с чем-то, доносящимся из дальней дали.
— Он снова запил?
— Ни капли. — Биральбо встал с кровати и пошел открывать балкон: отблесков солнца на крышах домов и верхних окнах «Телефоники» больше не было. Потом обернулся ко мне, показывая пустую бутылку. — Потому что он никогда не отказывался ни от алкоголя, ни от музыки. Тогда в Лиссабоне они у него просто закончились. Вот как эта бутылка. Поэтому ему было уже все равно, жить или умирать.
Биральбо широко раздвинул занавески и бросил бутылку в мусорную корзину. Казалось, в утреннем свете мы сделались незнакомцами. Я взглянул на него и подумал, что мне пора уходить, но не знал, как об этом сказать. Прощаться я никогда не умел.
Глава XX
В следующие пару дней я совершил небольшое путешествие, побывал в одном городе неподалеку от Мадрида. А вернувшись, подумал, что пора бы уже написать Флоро Блуму, от которого ничего не было слышно с самого моего отъезда из Сан-Себастьяна. Адреса его я не знал и решил спросить у Биральбо. Позвонил ему в отель, но там мне сказали, что его нет. По какой-то причине, которую я теперь не вспомню, искать Биральбо в «Метрополитано» я отправился только через несколько дней. Возвращение в места, где я не бывал лет десять или двадцать, меня обычно не трогает, но стоит зайти в бар, куда я захаживал всего пару недель или месяц назад, как меня охватывает невыносимое ощущение бреши во времени: что-то ведь продолжало происходить с привычными вещами в мое отсутствие, они без моего ведома подверглись едва заметным изменениям, — наверное, так чувствует себя человек, на пару месяцев оставивший свой дом в распоряжении недобросовестных съемщиков.