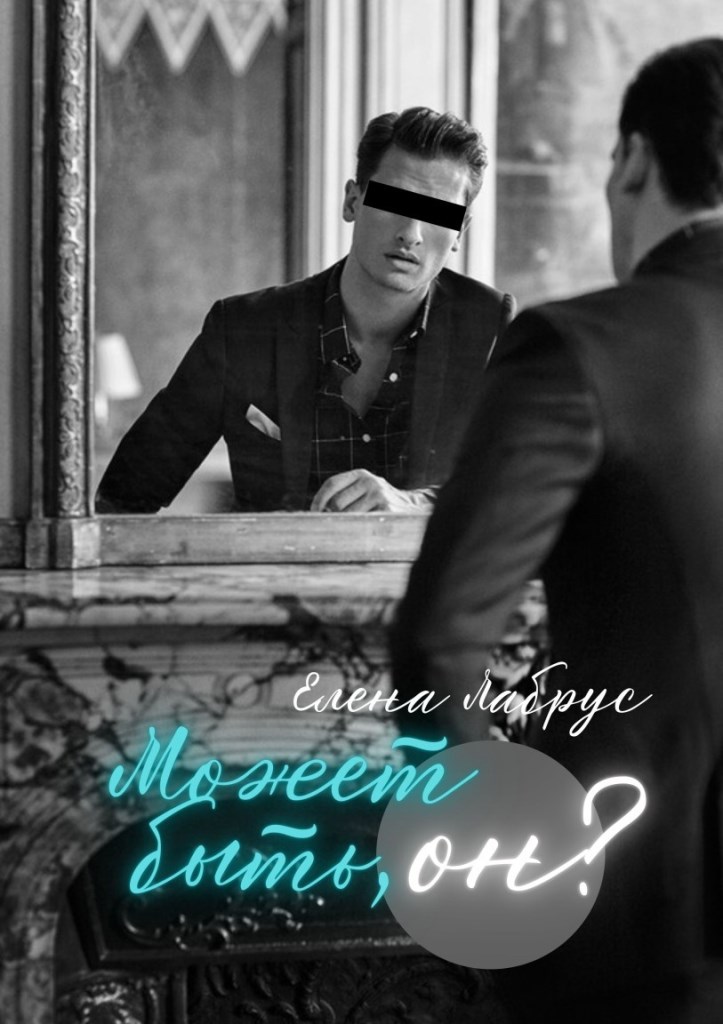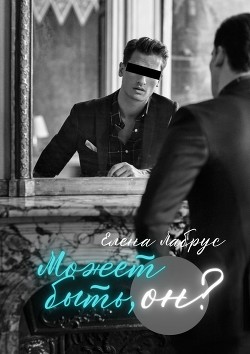Да нет, я не слышала, сказала я, и напрасно он так говорит, потому что все обстояло совсем по-другому. Мы всегда видим в прошлом то, что хотим видеть — в свете настоящего. Ведь тогда, когда протекало это прошлое, с ним было все в порядке, во всяком случае, ничего такого я по нему не видела. Потому и не видела, сказал он, что его самого не было видно, — вот так и в научной работе, которой он занимается: видно только то, что исследователь изучает. Такова современная физика: то, за чем не следят или чего не замечают, того нет, тот мир не существует, как и тот человек. И он тоже как бы не существовал, не было в поле зрения такого человека, не было воли, которую мы должны принимать во внимание или которой сопротивляться. Вот и его волю никто ни принимал, ни отвергал, потому что ее не замечали. Он был только одним из компонентов в этой конфигурации, сказал он, в этой общественной ячейке, которую так высоко ценят в европейских обществах, в ячейке, которую я определяла в соответствии с его функцией (отец).
Как же это можно выдержать, спросила я; мы сидели, кажется, в комнате, по телевизору как раз шла реклама. Ну там же были эти… мелкие, сказал он. Что еще за мелкие, не поняла я. Ну, эти, продолжал он, дети наши. Они его так любили, так обожали, всем существом, не за что-нибудь, а просто так, что это помогало ему забыть о том, чего ему не хватало. Но время шло, и эмоциональная сеть, действующая на таком подсознательном уровне, распалась, исчезла. По мере того как дети росли, их эмоции устремлялись в других направлениях, и тогда то, чего не хватало, поразило его такой болью, что нужно было что-то делать. Но ведь чувства остаются, они только меняются, сказала я. Сейчас их можно любить по-другому, но можно же, и даже нужно. Да люблю я их, сказал он, только чувство это уже не может компенсировать — как я ненавидела это слово! — то, чего мне не хватает, именно потому не может, что оно другое. Фильм продолжался.
Так ли оно все было — кто может сегодня сказать? Кто может сказать, что мужчины, которые, следуя каким-то своим биологическим особенностям, а в определенной мере и по социологическим причинам, потому что увеличилось количество одиноких женщин тридцати с лишним лет, снова могут начать жизнь, пускай в пятидесяти — или шестидесятилетием возрасте, — так вот, не готовы ли они покинуть даже самую полную любви обстановку, чтобы доказать, что все еще могут быть необходимыми. Их сексуальная энергия еще может служить фундаментом для строительства целых царств, они — не беззубые львы, которые, забившись в дальний уголок саванны, ждут молодых самцов, которые бросят и им какую-нибудь кость. Кто может это сказать?
Прошлое он осмыслял в свете сегодняшней ситуации, то есть видел только ее негативные краски, — по той простой причине, конечно, что тем самым мог обосновать, для себя самого, возникновение новой связи. Напрасно я говорила ему: ты разве не помнишь, было и у нас такое, и как прекрасно это было, не важно что, летний отпуск, общее путешествие, сколько мы смеялись тогда, я напоминала ему, как мы валялись на берегу моря, как он нырял с детьми, он и сам вел себя, как ребенок. Ответ на это, вновь и вновь, был один: в пропорциях все это — пустяки по сравнению с тем, какие утраты он понес. Например, вечером, сказал он, в тот самый день, он прекрасно помнит, как они прыгали в воду ласточкой, и он думал, что это и есть счастье, — и наступил вечер, и ему пришлось пережить отказ. И что это — его главное несчастье… Собственно говоря, он мог быть почти счастливым, ведь все, что зависело от него, все это было, не хватало лишь немногого, что должен был бы добавить другой, то есть я. А он — не такой, чтобы из-за красивого пейзажа или потому, что можно купаться хоть трижды в день и солнце шпарит вовсю, — чтобы он поэтому мог бы забыть, что в жизни ему не хватает чего-то очень важного.
Позже выяснилось — но теперь-то уже все равно, — то, чего ему не хватало, это была не я: не хватало ему чего-то совсем другого, а чтобы я отвечала за это, было крайне несправедливо с его стороны. Нельзя же дать однозначный ответ, кто кого в какой мере любил. Потому что невозможно любить так, как он хотел, то есть все время, беспрерывно и одинаково. А любить не так — вообще не стоит, сказал он, потому что это уже ничто, ведь тут нет как раз сути, и привел какой-то пример насчет атомов: если в них нет чего-то, то они не тождественны самим себе. Но дело в том, что мне нужен был он, и он был, это точно, он же нуждался в ком-то другом, вот что меня убивало: ведь я-то могла быть лишь такой, какая я есть.
Я постараюсь что-нибудь изменить, сказала я ему, когда и мне стало ясно, что нас уже не двое и что весь поток жалоб, который из него изливался, служил обоснованием этой связи на стороне. Но мне было важно, чтобы он оставался. Я готова что-нибудь изменить — и я перечислила, что и в какой мере. Я по-другому буду смотреть на него, по-другому буду говорить, по-другому стану к нему прижиматься, по-другому буду воспринимать его волю — как важную и не подлежащую обсуждению. Если бы я сказала, уходи, может, было бы лучше, но я не могла так сказать, ведь я любила его. Я чувствовала к нему именно то, чего ему не хватало, чего он во мне не чувствовал. И ощущение это постоянно было во мне.
Для себя он, конечно, объяснял мое решение экономическими и биологическими причинами. Дескать, я хочу сохранить прежний уровень жизни, так он думал, а потом и говорил, уровень, который был до сих пор, и я-де не верю, что способна сама себя обеспечивать, он так и сказал, или начать новые отношения. Я-де однозначно достигла того возраста, когда женщина уже никаким образом не может сделать хороший выбор. Ужасно было слышать от него эти слова. Но он не замечал, что жестоко бьет беззащитного человека, он был полностью погружен в свои несчастья. Он разрывался между волей молодой женщины, желающей создать семью, и волей женщины, которая хотела свою семью сохранить. Ни одна из них не была его волей. Но какой была его собственная воля? Он не знал этого, а так как не знал, то выбрал ту волю, которую выбрать удобней и приятней.
Сначала я думала, он рад тому, что обстоятельства изменились и мы наконец можем опять стать такими, как в то время, когда детей у нас еще не было, только теперь уже не испытывая той нужды, в какой жили тогда; но его уже не интересовало, что и как я собираюсь менять. Возможно, он даже сердился на меня, что я вроде пытаюсь поколебать его моральную решимость, его готовность уйти, — ведь как совершит он этот шаг, если былые причины потеряли свою актуальность. Он оставался только из удобства или потому, что не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы завести новую семью. Только слабость удерживала его дома. Я не играла никакой роли в том, что он еще остается со мной, я могла быть кем и чем угодно. Он оставался бы там независимо от конкретных обстоятельств. И то, что я его простила, ничего не значило. Что это такое — прощение? Бывает оно вообще? Разве что в церкви, на исповеди: там кто-то прощает тебе прегрешения? Если ты произнесешь необходимое количество «Отче наш» и «Верую», любой скажет, что прегрешений не было, или можно считать, что с этого момента о них можно забыть? Нет, никто тебе ничего не прощает, только сочетание обстоятельств и необходимых факторов побуждает тебя принимать то, что есть, и не пытаться из-за обид коренным образом изменить свою жизнь. А потом, в конце концов, ты в самом деле забываешь, что произошло, потому что на дурное воспоминание накладывается так много всего, в том числе, конечно, и много-много хорошего, что плохое уже невозможно выкопать из-под этой груды. Забвение — единственное эффективное лекарство, только оно стоит чего-то.
Забыть — это то же самое, что простить, и если кто-то видит тебя с тем мужчиной, который бессовестно тебя обманул и об этом всем известно, потому что разве в этом городе что-нибудь остается в тайне? Да ничего и никогда! Такого, чтобы — тайна, вообще не существует, есть лишь что-то, о чем не говорят, но, конечно, всем все известно. Словом, если какие-нибудь женщины смотрят на тебя и говорят, что уж они-то и минуты не смогли бы провести с человеком, который допустил по отношению к ним такую гадость, и вообще не понимают, как ты это можешь. Скажем, сидят они где-нибудь за столиком, перед кафе, на центральной площади города, и пьют что-нибудь, например чашку кофе с большим количеством молока, и обсуждают современные кофемашины, благодаря которым даже здесь можно выпить кофе такого высокого качества, какое бывает в лучших кофейнях, и тут они видят, как мимо проходит женщина, о которой я перед этим говорила, и не могут представить, как это возможно, с таким безмятежным видом идти рядом с этим мужчиной, хотя причина тут одна-единственная: она уже забыла, что случилось.