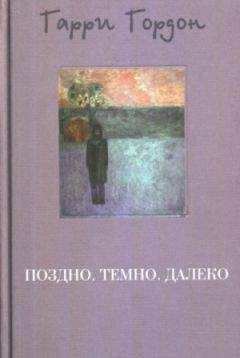— Фимочка, я видела этот фильм не дублированным, а с субтитрами…
— Ничего вы не понимаете! Так, где же папа Карла?
— Почаще надо приходить. Он уже неделю в Барыбино, это где-то под Москвой.
— Что может делать поэт в Барыбино? — почему-то обрадовался Магроли и опасно запрыгал на стуле.
— Поэт в Барыбино может класть мозаику в бассейне племенного совхоза.
Магроли огорчился и рассеянно потащил в рот ложку сливочного масла.
— Может, с хлебом, Фимочка, — робко спросила Татьяна.
— Татьяна Ивановна, — погрустнев, сказал Магроли, — я вас очень напрягу, если приткнусь где-нибудь в уголке с пером и бумагой?
— Конечно, Фима, идите в комнату, и за столом, как белый человек… Что, срочно в номер?
— Да нет, — отмахнулся Магроли, — старикам две недели не писал в Луганск. По телефону много не наговоришь, к тому же матушка так ловит интонацию…
— Где вы сейчас живете, Фима?
— Та, у одного приятеля. Питерского знакомого. Вот надоем ему и к вам на кухню.
— Ладно пугать. Видали…. Жениться вам надо, Фима.
— А, это уже было.
— Нет, по-настоящему.
— По-настоящему? А где я найду похожую на вас?
— Зачем, разве вы похожи на Карла?
Что-то щелкнуло, верхние конечности Магроли пришли в движение.
— О, Карла, — загудел он, — старый жуир с павлиньим хвостом, — конечности замелькали, как пропеллер, изображая павлиний хвост, затем левая рука внезапно упала, а правая, с собранными пальцами, стала дергаться снизу вверх, изображая, по-видимому, вздымающийся бокал. — Когда меня Юрочка Винограев впервые повел к вам, я рассчитывал увидеть толстого вальяжного еврея с бантом, с носом, набитым волосами, и я боялся. А дверь открыло что-то сморщенное, кислое, — и я испугался еще больше.
— Павлиньи перья что-то не стыкуются с этим огурцом, — с сомнением сказала Татьяна.
— В том-то и дело, что стыкуются, — заволновались руки, — это называется — принцип обратного реализма! Представьте себе, когда…
— Не морочьте мне, Фима, голову. Мне еще окно докрашивать.
— Все, иду, иду. А Винограй давно заходил?
— Накликаете…
Раздался долгий звонок.
— Ну, вот, — обречено вздохнула Татьяна, — сами теперь расхлебывайте.
— Здравствуй, Танюша, — захлопал девичьими ресницами Юрочка. — Я на минутку. Как тут у вас? А где Катька, а где малая?
— Татуля в школе, здравствуй. А Катька, я же тебе говорила, — она в деревне, с бабушкой.
— Ох, извини, забыл.
Юрочка, преодолевая заикание, некоторые слова произносил, как бы разбегаясь на звуке «а». Никто не обращал на это внимание, пока он не назвал себя однажды «А советский, а писатель».
— Привет, — пройдя на кухню, поздоровался он с Магроли. — А ты что здесь делаешь?
— Нет, вы видели, Таня, каков нахал!
— Фимочка развивает принципы противоположного гуманизма, или что у вас там…
— Нет, я с вами не гуляюсь, — возмутился Магроли, — вы жалкие ничтожные личности, я пойду писать письмо на малую историческую родину.
— Давай покрашу, — предложил Винограев.
— Нет, Юрочка. А если так уж хочешь помочь, то сходи в магазин и купи хоть что-нибудь.
Татьяна вытерла руки и достала из кармана передника трешку.
— Хлеба, черного и белого, и — хоть рыбы, что ли, или колбасы. Татуля скоро придет, а я тут, видишь…
— Понял, — кивнул Юрочка и, взяв Татьяну за локоть, передвинул ее на метр. — Ничего, если я выкрою что-то около рубля? Не беспокойся, куплю все, что надо. Я умею.
— Ну, выкрой, — пожала Татьяна плечами.
— Что, ушел? — откликнулся на хлопнувшую дверь Магроли.
— Да нет, сейчас придет. Все-таки он трогательный, — сказала Татьяна, появляясь в дверях комнаты.
— Да-а, — вежливо протянул Магроли, не отрываясь от письма.
Юрочка вернулся скоро, выложил из портфеля мутный пакет наваги, батон и половинку черного. Затем торжествующе достал со дна портфеля темную бутылку.
— А «Кавказ», а розовый, — скромно сказал он.
— Тю, Заквак, — удивился Магроли. — Юрочка, это пошлость — так настойчиво оправдывать свою говорящую фамилию. Впрочем, ты самоотвержен. Ну что ж, — быть может, за глотком «Кавказа»…
— Ребята, я пожалуюсь в домоуправление. Я же ничего не успеваю. — Татьяна переводила растерянный взгляд с Магроли на Юрочку.
— А Танюша, а давай я пожарю рыбу.
— Танечка, не беспокойтесь, мы, как мичуринцы, то бишь тимуровцы, хотите, я помою посуду?
— А-а-а, — в отчаянии закричала Татьяна. — Фима, вы все-таки козел, — успокоилась она. — Посмотрите на рукав! Когда вы успели приложиться?
Магроли вывернул локоть и поднес его к носу:
— И правда, белила! Может солью посыпать?
— Хвост вам солью посыпать. Сейчас что-нибудь придумаем.
Винограев снисходительно помалкивал.
— А что, Танюша, — вдруг вспомнил он, — неужели ты с Магроликом до сих пор на «вы»?
— Мне нельзя, — твердо сказала Татьяна, — если перейду на «ты», тут же убью.
Щелкнула дверь, вбежала пятнадцатилетняя Татуля.
— О, — неуверенно обрадовалась она, — у нас гости.
— Малая, — торжественно встал Магроли, — приди в мои объятья!
Нижние конечности его задвигались, зашатался стол, Винограев подхватил падающую бутылку.
— Ужель та самая Татьяна, — плясал Ефим Яковлевич, — которой он наедине, не слишком трезв, не слишком пьяный, давал уроки в тишине, по математике, ой, вей, (Шишков, переводи скорей).
Длинным глотком Винограев вытянул полстакана. Когда потеплело, он стал благодушно озираться.
— Новую картинку Карл написал, опять Одесса, сплошные блики, никак не угомонится. Да пусть, в конце концов, это его ниша. У него своя, а у меня своя. Тушью сейчас мало кто работает, гризайлью — тем более, к тому же я поэт, что с меня взять, рисую для души.
— Карл пишет?
— Звонит, — ответила Татьяна, отпрянув от шипящей сковородки.
— Да нет, я имею в виду картинки.
Татьяна пожала плечами.
За окном пропадал солнечный день, невостребованная тишина стояла над школьным двором, примиряя дикую эту площадку с окрестной нормальной природой, хотелось на волю, но глупые, бодрые слова жужжали, летая по кухне, кружились над головой, впору отмахиваться вилкой.
— Я сейчас вернулся из Экибастуза, — рассказывал Винограев, — из творческой командировки от общества «Знание». Я уже был там в прошлом году. Так вот, принимали нормально. Но сам разрез, надо сказать, это преступление века…
— Постой, — очнулся закручинившийся Магроли, — ты же в прошлом году говорил, насколько я помню, что это подвиг века…
— Ефим, — надменно, с металлом в голосе, ответил Юрочка, — а прошу меня не перебивать!
Он налил себе и, покружив бутылкой, — Ефиму.
— Танечка, тебе как, налить?
— Спасибо, Юрочка, пейте сами.
— Ну, тогда мы за тебя и выпьем, — обрадовался Юрочка, — Фима, только с локтя.
— За Татьяну Ивановну я готов хоть с колена!
— Ой, не надо, — испугалась Татьяна.
— Так вот, — мечтательно помолчав, продолжил Винограев, — принимали нормально. Цены в райкомовской столовой смехотворные…
— А как же с подвигом века? — напомнил Магроли.
— Да, — горячился Юрочка, — в прошлом году мне так показалось. Но я живой, а человек, и могу изменить свое мнение. Было подвиг, стало преступление. И нечего…
— Да какая разница, — примирительно сказала Татьяна.
«Дорогие мои батьки, — писал Магроли, — низкий поклон вам от тридцатитрехлетнего вашего балбеса, распинаемого ежеминутно на перекрестках клятой москаливщины.
Простите, что долго не писал, времени совсем не стало — вольные хлеба радуют глаз, но мало что дают для моей долговязой плоти. Поэтому я устроился на службу, в кинопрокат, деньги небольшие, но если Отдел пропаганды не перестанет меня любить, то вкупе — очень даже ничего.
Все больше и больше убеждаюсь, что фиктивных браков не бывает, разве что на небесах. Мы живем с Элей душа, простите за банальность, в душу, Ренат замечательный пацан, очень разумный, даже непонятно — он мне пасынок, или я ему — сын. Скоро ему двенадцать, и я собираюсь подарить ему, ох, не знаю, хотелось бы Брокгауза… Кстати, о книгах, пришлите мне, будь ласка, того „Кобзаря“, а лучше, „Выбрани творы“ тридцать девятого года — подарю Карлу, очень обрадуется. Старый дурак замахнулся перевести „Заповит“. Очень любопытно. Александру Трифоновичу, как вы знаете, не слишком удалось. Петьке Тарасенко скажите, чтоб прислал свои вирши, я их читал Карлуше — тот загорелся. Перевести — переведет, а протолкнет Лида Михайлова. Хорошо бы. Как вы там? Батя, здорова ли мама, матушка, не давай бате много работать. Тетушке поклон и поцелуи, пусть поменьше вздыхает. Яшке-козлу скажите, чтоб написал.
Ну все, это я подал только голос, а письмо, настоящее, напишу на днях. Татьяна Ивановна и Юрочка вам кланяются, а Карлуша в отъезде. Целую, ваш Юхим».