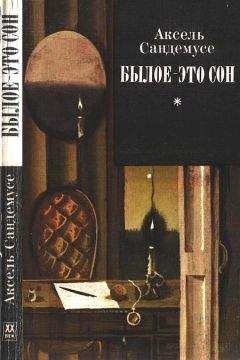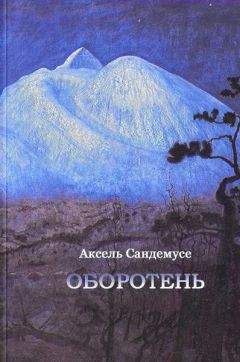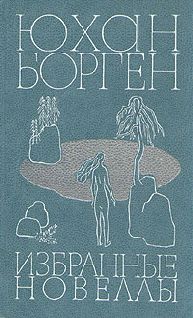Я думал о человеке, который мошенничал со счетами и в конце концов был вынужден заявить на самого себя. Все деньги в кассе были целы, он пускался на эти махинации, чтобы прикрыть преступление, которого никогда не совершал.
И о фотографии моей сестры, вставленной в могильную плиту на кладбище в Йорстаде, и о Хенрике Рыжем, которого я посетил в Царстве Мертвых, и об Антоне Странде, убитом моим братом. Как бы там ни было, мой брат не душевнобольной… ну, а брат Карла?
Я спрятал лицо на груди у Сусанны.
Мы знаем много такого, в чем не смеем себе признаться.
Однажды Гюннер сказал об одном человеке: я знал его только в период безысходности. Он не сказал: когда у него была депрессия или что-нибудь в этом роде, вполне безобидное, нет, он сказал именно в период безысходности, словно это было нечто столь же неизбежное, как переходный период или период роста. Меня охватил знакомый страх, я услыхал какой-то грозный подземный звук, будто в темных глубинах рухнуло что-то, что нам хочется считать незыблемым.
После той ночи, когда Трюггве приходил к нам, на меня стали нападать приступы страха, они сопровождались галлюцинациями. Однажды мне почудилось, будто я иду по дороге. Я был один. Мимо проходило много народу, но никто со мной не здоровался, все делали вид, что не замечают меня. Маленькие дети показывали на меня пальцами и кричали: «Вот он, смотрите!» Дети постарше улюлюкали мне вслед, и в их голосах звучала ненависть. Взрослые только отворачивались.
Все это я увидел, когда мы сидели за завтраком, от страха меня стало мутить.
Сразу же после этого я увидел себя на высоком мосту, перекинутом через реку. Я глядел на воду, она была так далеко, будто я летел в самолете. Кто-то подошел и бросился вниз. Я видел, как он перевернулся в воздухе. До воды было бесконечно далеко. Наконец он достиг воды, но из-за расстояния плеска не было слышно. Я упал плашмя и, прижимаясь к асфальту, пополз на середину моста, я кричал и плакал.
На другую ночь на меня напала боязнь темноты. Единственный раз за долгие-долгие годы. Вообще-то боязнь темноты исчезает, когда тебя перестает заботить, что о тебе думают люди. Пусть прижимают к окну свои бледные рожи, пусть смотрят сколько влезет.
В семнадцать лет тебе казалось, что многое следует скрывать. Тогда ты боялся темноты и не любил пустынных лесов, за исключением тех случаев, когда говорил о них с поэтическим вдохновением. Со временем любой лес стал просто деревьями, на которых можно повеситься. Человек был создан не раньше, чем все было тщательно подготовлено к его появлению.
Я основал свою фабрику в самом начале 1914 года, то есть незадолго перед прошлой войной, которая разразилась словно нарочно, чтобы помочь мне встать на ноги. К тому же в ту пору еще не исчезли отголоски добрых времен, наступивших после землетрясения в 1906 году. Когда капитал устремляется заполнить вакуум, легко заработать большие деньги. Мне помогли выгодная конъюнктура и здоровая предприимчивость. К 1920 году я уже разбогател, хотя и сильно пострадал потом, в 1929-м. Я пережил депрессию, и даже не хочется говорить, каким капиталом я обладал в 1939 году, когда приехал в Норвегию.
Несмотря на налоги, мое состояние сильно увеличилось во время этой войны. В скором времени я собираюсь продать свои акции и вложить все деньги в недвижимость.
Эти годы я работал как зверь, но часто с отвращением. По своему характеру я не деловой человек, уж слишком близко к сердцу я принимаю столкновения с людьми, — других они стимулируют, меня же только мучат.
Мне хотелось более связно рассказать тебе о своей жизни, но это так скучно. Придется ограничиться тем, что уже сказано косвенно или кое-где проскочило случайно. Лучше всего я сейчас помню пустяковые и далекие вещи, но, по-моему, они-то и важны. Они словно нервные центры, что-то от них расходится веером, часто с самого детства и вплоть до этой минуты. Мелочи, совершенные пустяки.
Передо мной лежит письмо отца. Он написал его, когда ослеп. Отец ничего не знал обо мне и отправил письмо через министерство иностранных дел. Несколько строчек набежали одна на другую.
Я слышу этот вопль старика, посланный мне из бездны слепоты, слышу здесь, я — сын, отложивший письмо отца и забывший о нем.
Да, все это мелочи, пустяки. Однажды ребенком я пришел на болото, не помню уже, что мне там понадобилось. Я был один. На обратном пути я на мгновение остановился и оглянулся на болото, просто так, ни за чем. Я помню тот случай, словно он произошел час назад.
Вечерами, когда было много снега, мы катались на санках с горы, на которой стоял наш дом. Я и сейчас чувствую морозный ветер, дувший в лицо, слышу крики, вижу звезды над головой. В девять часов мать звала нас домой.
Двенадцатого мая 1897 года, когда мне было девять лет, один мальчик по имени Алфред уехал со своими родителями в Чикаго. В сочельник мне разрешили лечь попозже, чтобы я мог написать Алфреду. Письмо было длинное. Оно вернулось обратно в марте 1898-го. Мне и теперь еще интересно, что же тогда случилось с этим Алфредом.
Мы с Алфредом долго играли в пустынном песчаном карьере и неожиданно заметили, что наши тени изрядно удлинились. Хотели бежать домой, но в карьере вдруг появился какой-то человек, худой и высокий. В закатном освещении он казался рыжим.
Почему-то мы испугались его, у меня затряслись коленки. И тут произошло нечто необъяснимое — Алфред подошел к этому человеку, снял шапку и сказал: «Надеюсь, вы нам ничего не сделаете?»
Человек грыз травинку. Он внимательно посмотрел на Алфреда и, ни слова не говоря, пошел прочь.
У меня был бумажный змей, я запустил его недалеко от болота. Он поднялся высоко-высоко, выше всех домов. Вдруг шнурок оборвался, змей сделал рывок и исчез, улетел туда, где я никогда не бывал. Горе мое было безутешно, и в тот вечер отец сидел возле моей постели, пока я не заснул.
Вечером 11 апреля 1940 года мы с Сусанной шли по Парквейен. Город был затемнен, все еще были потрясены случившимся.
Мы услыхали шум в парке и пошли медленней. В ту же секунду грянул выстрел, пуля щелкнула по железной ограде совсем рядом. Сусанна перепугалась и не пустила меня выяснить, в чем дело.
Может, в парке был сумасшедший? Или кто-то целился оттуда в одного из нас?
Жалкие, растерянные, мы шли, крепко прижавшись друг к другу. Не могу представить себе, что я больше никогда не увижу ее.
Осло, 18 октября 1939.
В поезде я нашел пустое купе для курящих и разложил вещи на сиденьях так, чтобы выглядело, будто я не один. Но меня это не спасло. Сперва вошла супружеская чета и уселась напротив, потом кто-то сел рядом со мной. Я закурил и стал смотреть в окно на светлый по-летнему день. Был конец сентября, я еще вел счет дням войны: сегодня три недели, как немцы вторглись в Польшу.
Женщина напротив относилась к известному, отвратительному, типу людей, которые от избытка чувства собственного достоинства видят мало радости в жизни. Она громко и подчеркнуто ласково разговаривала со своим испуганным мужем, которого по виду можно было принять за книготорговца или что-нибудь в этом роде. Она явно им помыкала. В молодости, думал я, она, наверно, хвасталась, что служит в респектабельных домах, теперь же ее оскорбил бы даже намек, что она вообще когда-то была прислугой. Теперь у нее у самой респектабельный дом, и она часто меняет прислугу. Мужа она заговаривает до смерти, и дети, безусловно, закончили среднюю школу. Атмосфера в доме мрачная, дети стараются бывать там как можно меньше. А виноваты во всем и муж и время.
Да-а, принести несчастье самому себе не так-то просто, но при некотором усилии это удается.
Глядя на ее мужа, я вспомнил чудных рыб, у которых маленький самец живет под брюхом у самки. Он — паразит, не умея добывать себе пищу, он присасывается раз и навсегда к своей супруге-матери, и даже кровообращение становится у них общим.
Эта женщина обзавелась как раз таким мужем и намертво пришпилила его к себе. Чтобы подчеркнуть свой пол, он носил бороду, которая росла у него клочками.
Рядом со мной сидела молодая девушка, и я жалел, что она сидит не напротив. Это не пустяки, если человеку предстоит просидеть несколько часов, глядя прямо перед собой. Одна моя знакомая рассказывала, что в поездах она всегда садится напротив мужчины с приятной внешностью. Глядит на него неприступным взором, а сама мысленно играет в игру, будто он ее муж.
Почувствовав, что моя соседка смотрит в другую сторону, я покосился на нее. Что-то в ее лице напоминало о зимнем утре в лесу; мне, правда, припомнился и пыльный закат в пустыне — жара и холод, смутные, далекие воспоминания. Во всех девичьих лицах есть нечто общее, мудрое и в то же время решительно невинное. Угадывается жизненный путь, столь же целеустремленный и бессознательный, как полет перелетных птиц.