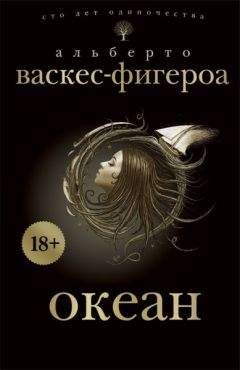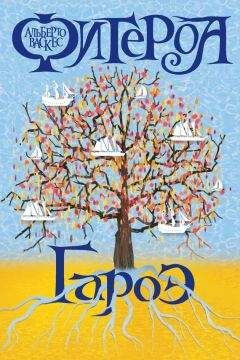Педро Печальный едва помнил дона Матиаса Кинтеро, хотя и видел несколько раз, как тот проезжал по пыльной дороге, пролегавшей между Тинахо и Мосагой, на огромном «бьюике» вишневого цвета, таком красивом, какого он больше в жизни своей не видел. Его взгляд неизменно приковывали к себе сверкающие хромированные детали автомобиля, а белый брезентовый верх, летом всегда откинутый, нравился намного больше, чем усатый человек в темных очках, прямо сидящий за рулем.
Дон Матиас Кинтеро принадлежал к семье, хорошо в этих краях известной. Он владел домами, землями и виноградниками и получил образование на Полуострове[17], в том далеком и полном загадок месте, о котором Педро Печальный не имел ни малейшего представления, ибо единственное, что ему удалось выяснить, так это то, что там находилось правительство и одно время шла кровопролитная Гражданская война, а еще то, что оттуда на остров иногда приходило добро, но зло оттуда приходило намного чаще.
Дионисио и Мильмуертес родом были с Полуострова, точно так же, как и тот, другой, со страшной татуировкой на плече и со шрамом на груди. В течение всех этих лет, что Педро ходил в таверну и, устроившись в уголке, молча слушал разговоры завсегдатаев, он ни разу так и не услышал что-либо хорошее о чужаках и не знал ни одного из них, кто бы сотворил хоть какое-то добро для Лансароте и его жителей.
Ему лично, правда, чужаки не сделали ничего плохого. Он их вообще представлял очень смутно до того момента, пока двое из них не пришли и не потребовали отыскать Асдрубаля Марадентро. Выражались они всегда туманно и нравом своим мало чем отличались от других чужаков, чья кожа была белой, а волосы по цвету напоминали выжженную солнцем траву. Люди эти, появляющиеся на острове внезапно и так же внезапно исчезающие, одевались всегда неряшливо, а из речи их нельзя было понять ни слова.
Так и дон Матиас Кинтеро был для него чужаком, с которым он и не чаял когда-либо завязать знакомство. И вот теперь этот человек грозил уничтожить то единственно великое, что Педро совершил в своей жалкой жизни.
Поначалу он ничего не хотел предпринимать, однако в воскресенье все же встал пораньше, подоил коз и, заперев загон, свистнул собак. Затем, обвешавшись ловушками и силками, он зашагал по тропинке, извивающейся на толстом боку вулкана Тимафайа.
Шел он быстро, и шаги его были настолько широкими, что, пожалуй, поспеть за ним могли лишь его верные псы. Он пересек обрабатываемые поля, взобрался по склону и вышел в долину, иссеченную лавовыми оврагами, и, прежде чем солнце поднялось к зениту, проник в пещеру-лабиринт, подсвечивая себе маленькой карбидной лампой.
Собаки вскоре забеспокоились и начали рычать, когда же Педро миновал вторую галерею и вышел в высокую залу, до потолка которой свет от лампы так и не смог добраться, он тоже почувствовал вонь от разлагающегося трупа.
Галисиец сидел в углу с разнесенным тяжелой пулей черепом, оставившей царапину на лаве над его головой. Револьвер по-прежнему был зажат в его руке.
Педро взял револьвер и продолжил поиски, однако трупа Мильмуертеса нигде не нашел, ибо собаки потеряли его след у края широкого колодца, который, как уже давно понял Педро, ведет прямиком в ад.
Он пошарил вокруг себя в поисках камня, однако, не найдя его, вытащил из барабана револьвера пулю и бросил ее в черноту колодца.
Как ни напрягал он слух, так и не услышал звука ее падения и в конце концов пришел к заключению, что этому сучьему сыну Мильмуертесу страшно не повезло, ибо свалился он, должно быть, прямехонько на вилы самого дьявола.
Педро вышел из пещеры, отошел метров на двадцать, присел на теплый камень и медленно, с наслаждением достал свой гофио.
Сперва он дал поесть собакам, а затем поел сам. И пока ел, он смотрел на вход, ведущий в пещеру, о которой никому, кроме него, не было ведомо, и спрашивал самого себя: «Может ли так статься, что однажды кто-то набредет на вход, войдет внутрь и найдет в одном из залов человека с пулей в черепе? И станет ли ему интересно, где же оружие, откуда эта пуля была выпущена?»
Могут пройти столетия, прежде чем какой-нибудь охотник настолько потеряет голову от азарта, что решится пройти по морю застывшей лавы, и собаки его проведут своего хозяина по запутанным подземельям и выведут прямиком к скелету бедолаги галисийца.
Педро подумал о галисийце, о Мильмуертесе и обо всем, что произошло за последние дни, и испытал чувство, очень похожее на удовлетворение, ибо он наконец-то четко осознавал, что ради событий последних дней стоило прожить жизнь. Теперь у него была тайна, и он, когда в очередной раз придет в таверну и тихонько сядет в своем углу, станет иначе смотреть на хорохорящихся друг перед другом мужчин.
Наверное, и они бы взглянули на него иначе, если бы только узнали, что жалкий любитель коз, единственная радость которого — напиться допьяна в одиночку, оказался способным избавиться от двух отъявленных головорезов и спокойно лицом к лицу встретиться с третьим. Однако рассказывать об этом Педро никому не собирался, так как ему казалось, что к тайне его никто не должен прикасаться, иначе она потеряет добрую половину своей прелести.
Если бы он рассказал кому-то о произошедшем, то опустился бы до уровня невежественных крестьян, всегда готовых почесать языком по делу и без.
А ведь он не был обычным человеком, ведь он знал о сердце Земли, чье биение слышалось у Тимафайа, кратер которого напоминал ему открытую рану. Только он один во всем мире, лежа на лавовой плите на самой вершине вулкана, мог часами говорить со Вселенной. Только он понимал, что Айза Пердомо наделена волшебным даром, всю силу которого сама до сих пор не могла осознать. А теперь он единственный из всего поселка сумел дать отпор чужакам, убив двоих из них.
Возможно, кто-то бы задумался над тем, что же именно подтолкнуло тихого и в общем-то безобидного пастуха из Тинахо к подобному поступку. Всегда ли в нем жил дух убийцы или в тот момент он впал в экстаз и наконец-то нашел в себе силы разорвать тонкую нить своей монотонной жизни, когда он не знал большего счастья, чем в одиночестве бродить по острым камням, погоняя коз? Теперь же события того дня были навечно записаны, словно огнем выжжены, в его памяти. Он с удовольствием вспоминал каждую деталь случившегося и повторил бы все в точности, если бы представилась ему такая возможность.
Посему в тот самый вечер, когда он услышал, что дон Матиас Кинтеро не успокоится до тех пор, пока не покончит со всеми Пердомо Марадентро, Педро решил устроить все так, чтобы старик никогда не смог исполнить своей угрозы. От одной лишь мысли, что он лишит жизни этого богатого, всегда носившего белые костюмы человека, который, сидя за рулем своего вишневого «бьюика», так часто жал на клаксон, что пугались козы, Педро охватывало радостное волнение. А потом он снова придет в таверну в Тинахо, сядет в своем углу и будет с притворно безразличным видом наблюдать за ни о чем не догадывающимися посетителями.
Завершив тем временем свой более чем скромный завтрак, он положил в торбу тяжелый револьвер, ласково погладив по голове одного из псов, встал и снова отправился в путь, однако на этот раз он свернул на крутые и обрывистые тропы, ведущие к Мосаге.
Он прекрасно чувствовал время, и, когда солнце клонилось к закату, за его спиной уже вырос величественный дом, венчавший вершину холма, у подножия которого уже совсем стемнело. Педро удостоверился, что никто не заметил его появления.
Он хладнокровно ждал, когда окончательно стемнеет, время от времени бросая взгляды на дом, в окнах которого горел слабый, едва различимый свет. Собак своих он оставил на обочине, зная, что стоит кому-то лишь ступить на дорогу, как они громким лаем возвестят его о появлении нежеланного свидетеля.
Наконец он двинулся вперед и, пройдя между каменных заборчиков, защищавших виноградные лозы, пересек сад и затаился в тени смоковницы в десяти метрах от крыльца.
Дверь, ведущая в дом, была полуоткрыта. Вокруг, насколько хватало глаз, никого не было видно. Роке Луна, которого Педро прекрасно знал, тоже нигде не появлялся, однако он все так же неподвижно продолжал стоять в густой тени дерева, прислушиваясь к малейшему шороху, который мог бы донестись из дома.
Наконец четырьмя размашистыми шагами он пересек двор и вошел в дом. Остановившись в большой гостиной, он снова прислушался, однако услышал лишь стук своего сердца. Подождав, пока глаза не привыкнут к темноте, он открыл тяжелую, жалобно скрипнувшую створку двери и направился к широкой и высокой лестнице, со стесанными, немного кривыми ступенями.
Он остановился перед длинным коридором, свет в который попадал лишь из небольшого окна в самом его конце, и стал внимательно вглядываться в ряд закрытых дверей, гадая, за какой из них спит старик.