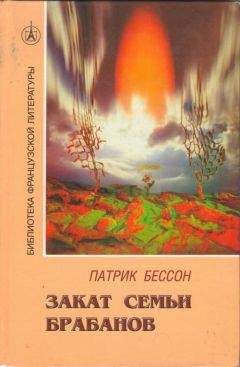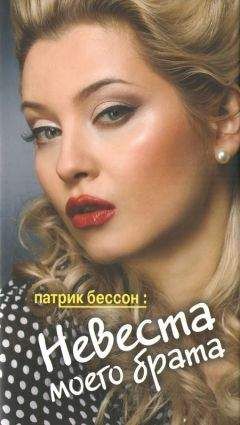— Это ты?
— Конечно, я.
— Ты попала в аварию?
— Да. Кстати, мне следует тебя представить: Иван Глозер, Стюарт Коллен; Стюарт Коллен, Иван Глозер.
— Home, sweet home![22] — напевал Коллен, и я подумала, не комментировал ли он таким бессознательным и странным образом отношения, сложившиеся у меня с Иваном.
— Ты приготовишь нам что-нибудь поесть? — спросила Синеситта. — Этот идиот Сушон так спешил отделаться от нас, что даже не захотел остановиться в ресторане.
Моя сестра сильно похудела, но меньше, чем нам показалось вначале. Что касается Коллена, то он набрал килограммов двадцать, и это нас поразило. Разница в весе между ним и Синеситтой составляла отныне сорок пять килограммов; и эта разница, не существовавшая год назад, стала новым, неожиданным и обременительным персонажем в саге нашей семьи. Мы еще больше обеспокоились, когда Синеситта сообщила за обедом, приготовленным Иваном по моей просьбе (он сделал пельмени по-краковски, рецепт, которому его научила Марина), что она на третьем месяце. Иван надел мамин передник, чтобы не испачкаться, и остался в нем за обедом. Он спросил, нормально ли так похудеть, когда ждешь ребенка. На что Стюарт ответил, что вычеркнул слово «нормально» из лексикона. Прекрасный способ, по его мнению, избежать язвы желудка. Иван взглянул на часы и стал совершенно пунцовым.
— О-ля-ля! — воскликнул он, вставая и надевая пиджак.
Синеситта наблюдала за ним с ироничным и несколько угасшим любопытством. Я сделала замечание Глозеру, что он надел пиджак на передник. Он ударил себя по лбу, снял пиджак, развязал передник, повесил его на крючок и снова надел пиджак.
Иван пожелал нам приятно провести время и уехал в это странное, таинственное и нелепое место, каким все Брабаны, особенно из второго поколения, считали его офис.
Мы услышали, как Стюарт носится по всему дому. Он играл с Октавом в младенца-Боинга. Это означало держать младенца над головой, подкидывать его до потолка, поворачивать вокруг люстры и пикировать на мебель.
— Вы сняли решетки с третьего этажа? — спросила сестра.
— Нет. А на втором их и не было.
— Второй этаж не опасен. В этом возрасте младенцы резиновые.
— Почему ты задаешь такой вопрос?
— Стюарт непредсказуемо ведет себя с младенцами, впрочем, как и с женщинами, и с самим собой.
— Он уже бросал Октава из окна?
— Да. В Кале. К счастью, мы жили на первом этаже.
Дальше мне трудно было сосредоточиться на разговоре. Пока Синеситта сбивчиво и уныло, перескакивая с одного на другое, описывала большинство событий, которые я изложила на предыдущих страницах, опираясь главным образом на ее более поздние рассказы, а также на уточнения, которые привнес в них во время нашего долгого совместного проживания Стюарт Коллен, я с тревогой следила за окном, готовая в любой момент увидеть в нем Октава, летящего вниз головой и разбивающегося о землю. Неожиданно Стюарт с расстегнутым воротничком, болтающимся галстуком и закатанными рукавами ворвался в кухню. Без моего племянника. Однако ни я, ни Синеситта не решились спросить, где он оставил сына.
— Кофе есть? — спросил он.
Моя сестра встала и начала убирать со стола. Коллен сел рядом со мной. Я ожидала, что он хлопнет меня по бедру, но он остался сидеть неподвижно, с отстраненным и в то же время веселым видом любуясь теми колоссальными разрушениями, которые произвел в моей сестре. Синеситта походила на рентгеновский снимок старинного стола, цвет и объемы которого исчезли и остался только рисунок. Однако она не казалась несчастной. В ней было какое-то экзальтированное и странное безразличие монашек, моющихся в течение тридцати лет холодной водой мылом «Марсель», похудевших из-за отсутствия алкоголя и помолодевших из-за отсутствия секса. Кажется, их зовут добрыми «сестрами». Она поставила чашку с кофе перед Колленом, потом обошла кухню, разглядывая мебель и фотографии, открыла ящики, чтобы посмотреть, какие у меня запасы продовольствия, и сделала вывод, что продуктов почти не осталось. Я объяснила, что у меня заканчиваются сбережения. Тогда Синеситта сказала, что, к счастью, «Бриттани Феррис» дала им немного денег.
— Теперь, когда у тебя есть степень бакалавра, ты должна найти работенку, — заявил Коллен.
— Иван мог бы подыскать тебе место, — предложила моя сестра.
— Мне есть, чем заняться, — ответила я. — Вы сами можете пойти работать.
— Вот оно, новое поколение, — воскликнул Коллен, — ничего не хочет делать!
— Ладно, как-нибудь устроимся, — примирительно произнесла Синеситта. — У нас есть время подумать.
— Двадцать тысяч франков, — заметил Коллен, — испарятся быстро.
— Может, мне вернуться в «Прентан»? — спросила Синеситта.
— Советую тебе позвонить им прямо сейчас, — обрадовался Коллен.
Синеситта встала и направилась в вестибюль. Но перед этим, охваченная любовным порывом и признательностью за его умное замечание, обняла Коллена и поцеловала в бугристую, отвратительную щеку. Она спросила из вестибюля, почему он оставил Октава в подставке для зонтиков. Он ответил: «А почему бы и не в подставке? — и добавил: — Это же лучше, чем если бы я оставил его в поясе для подвязок, в багажнике или на трапе!» По несколько натянутому и прерывистому голосу, которым Синеситта попросила секретаршу соединить ее с шефом, я поняла, что моя сестра взяла Октава на руки. В этот холодный, серый февральский день меня мучил вопрос, в кого мы превратимся, запершись, как в приюте для престарелых или лечебнице для душевнобольных, в этом загородном доме, в окружении предметов, напоминающих о былом величии Брабанов.
— Как ты находишь свою сестру? — спросил меня Коллен. — Она стала лучше, чем раньше?
Я вдруг подумала, что не помню, какой была Синеситта до встречи с Колленом. Мне пришлось сделать усилие, чтобы воссоздать в своей памяти, увы, неполный образ той скованной, худой, сияющей весталки, очаровывавшей меня в детстве и в подростковом возрасте. Я сравнила ее с замученной, изможденной матерью семейства, в которую она превратилась. Что появилась в ней нового? Может быть, некоторая апатия, которую испытывают участники марафона на Олимпийских играх сразу после соревнований: смесь невероятной усталости и равнодушия к смерти. Синеситта знала, что в ее жизни отныне не может быть ничего ужаснее, чем брак со Стюартом Колленом; и теперь, расставшись с иллюзиями, демонстрировала беспечность и патологическую веселость, правда, не лишенных некоторого ядовитого очарования.
Возвратившись на кухню, моя сестра сообщила, что «Прентан» возьмет ее на работу с испытательным сроком со следующей недели. Мы поверили, — и зря, — что выпутались из финансовых затруднений. Это нужно было отметить. Коллен спросил, не осталось ли в доме «Чинзано»? Я ответила, что не выпила ни капли. Синеситта заявила, что ее возвращение на работу нужно отмечать не «Чинзано», а шампанским. Коллен вызвался сходить за ним в лавку на углу и спросил меня, где ключи от машины. Машина, объяснила я, была не на ходу из-за неисправного глушителя.
— По такому холоду, — буркнул Коллен, — я не пойду пешком в лавку.
— Однако мы даже маленькими туда ходили, — заметила Синеситта. — Не правда ли, Брабан? Ладно, я сама схожу.
— Ты! — воскликнула я. — Ты же беременна!
— В Скандинавии тоже есть беременные женщины, что не мешает им ходить по холоду.
— Они ездят на «Вольво». У этих машин не очень хорошие тормоза, зато они хорошо обогреваются.
— В XIX веке не было «Вольво»,— возразила Синеситта.
— Именно поэтому, если верить папе, большинство скандинавов и эмигрировало в Соединенные Штаты.
— Только оденься потеплее, — проявил заботу о беременной жене Стюарт.
— Не беспокойся, моя любовь.
Она ушла, переваливаясь с боку на бок, в огромной пуховой куртке, которую мама подарила ей, чтобы она никогда не мерзла. Коллен сунул руки в карманы и встал перед окном. Он повернул ко мне свое странное жирное лицо, не выглядевшее ни совершенно человеческим, ни животным.
— Ты считаешь, что я должен был пойти вместо нее? — спросил он. — Любой мужчина на моем месте так и сделал бы, да? Но я — не любой мужчина. Я — мужчина, которого она любит. Если бы я пошел, то поступил бы как любой мужчина, а твоя сестра не способна любить любого мужчину. Синеситта не переносит в мужчинах то, что считается правильным и общепринятым. Мужчина, которого она любит, должен быть единственным в своем роде и непредсказуемым. Обрати внимание: она не хочет посредственного весельчака, карикатуриста с площади Тертр или члена Средиземноморского клуба. Ее не нужно развлекать, потому что она не скучает. Она тревожится. А избавить ее от тревоги может только мужчина, находящийся, как ей кажется, в чистом, нетронутом, первобытном состоянии, не имеющий никаких привычек, привязанностей, обычаев, кроме гротескных, потешающих всех других, как наши пантагрюэлевские обеды в ресторанах, о которых она должна была тебе рассказывать. Как только ты совершаешь что-либо банальное: запрещаешь ей идти пешком в лавку и идешь вместо нее, — ее тревога возвращается как буря, циклон. Мы только что, приятель, избежали морского прилива. Если бы твоя сестра не была совершенно особым существом с потребностями, отличными от потребностей других женщин, разве она бы осталась со мной, узнав, что 1 апреля 1974 года я убил свою жену и двух дочерей. И это не шутка, можешь мне поверить. У меня был приступ безумия. Во всяком случае, так сказал психиатр. Но когда я убил психиатра, никто не сказал, что это безумие, и меня приговорили к двадцати годам заключения. Однако, можно ли совершить более безумный поступок, чем убить своего психиатра?