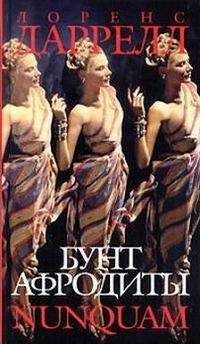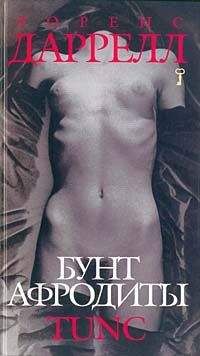Я не понимал, что могло заинтересовать Джулиана в подобных рассуждениях. Очевидно, он видел результат исследований Карадока.
Так как Бенедикта всё ещё спала, положив на колени «Вог», я направился к Вайбарту, желая обменяться с ним парой слов, однако меня перехватил печальный Баум, который, выражая очевидное желание открыть мне своё сердце, жестом пригласил меня сесть рядом. У меня теплилась надежда, что мы не будем обсуждать английскую нацию и её обычаи, поскольку я уже давным-давно перестал сокрушаться по этому поводу; к счастью, надежда оправдалась, поскольку теперь он заговорил о евреях.
— Интересно, — сказал Баум sotto voce, оглядываясь кругом, не подслушивают ли нас, — замечали ли вы антисемитские настроения в фирме? Недавно я очень огорчился.
Если Баум огорчался, то это было видно по нему.
— С чего бы это? — спросил я, рассчитывая перевести разговор на другую тему, пока не началась нотация.
— Граф Баньюбула, — как ни странно, произнёс он и, не мигая, стал смотреть прямо мне в глаза.
— Баньюбула? — изумился я.
Сжав губы, Баум кивнул, а потом продолжал с напором:
— Вчера, мистер Феликс, проходя мимо правления, я услышал такое, что прирос к полу. Он разговаривал с большой группой из торгового отдела. Не знаю, зачем они собрались и в каких регионах работают, но смысл его обращения был… Подождите, я записал. — Дотошный Баум извлёк карманный дневник, в котором застенографировал привлёкшие его внимание фразы. Откашлявшись, он принялся читать, имитируя аристократическую медлительность, свойственную Баньюбуле: «В наше время крайняя плоть, как всем известно, часть поэтического наследственного владения мужчины; нарочито, но изящно уменьшенный или совершенно упокоенный, он был предметом вдохновения для величайших художников и скульпторов, каких только знал мир. Вспомните Микеланджело, его невероятное…» — Поджав губы, Баум отложил книгу. — Больше я ничего не слышал, потому что они закрыли дверь, но меня это поразило. Мне пришло в голову, может, все торговцы, которые там собрались, евреи, а он…
Я осушил бокал и положил руку на плечо моему милому собеседнику.
— Баум, ради бога, — сказал я, — послушайте меня, Баум. Микеланджело был евреем. Все были евреями: Жиль де Рэ, Петрарка, Ллойд Джордж, Маркс и Спендер, Болдуин, Фабер и Фабер. Это уж нам известно наверняка. И У ВСЕХ БЫЛА КРАЙНЯЯ ПЛОТЬ. А вы знаете, что Баньюбула тоже еврей? И я еврей.
— Он не еврей. Он латыш, — с напором произнёс Баум.
— Уверяю вас, еврей. Спросите кого угодно. Баум несколько успокоился, но всё же не совсем поверил.
— У него теперь такая работа, что она значится в списке совершенно секретных, и ни у кого ни малейшего представления о том, чем он занимается. Естественно, я не хочу обвинять фирму, но с латышами никогда ничего не знаешь наверняка.
Выглядел он усталым. Покидая его, я постарался создать впечатление, что делаю это неохотно и вопреки собственным чувствам, для чего смахнул невидимую нитку с его рукава и уверил, что всё будет хорошо.
— Но, главное, ни в коем случае не поддавайтесь антилатышским настроениям, — сказал я, и, хотя на его искажённом лице сохранялось мрачное выражение, он согласно кивнул и со вздохом вновь уткнулся в свои бумаги.
Вайбарт выглядел не менее мрачным со взглядом, устремлённым сквозь облака, вдаль, где начали появляться синие просветы.
— А, Феликс, — задумчиво произнёс он. — Садитесь-ка поближе, вы ни разу не ответили на мои письма.
Я не стал этого отрицать.
— Не мог придумать, что бы такого написать; прошу прощения. Там нельзя было вообще болтать — хотя в болтливости мы находили некоторое разнообразие, пока я не сбежал, не получил по голове и не отдышался в «Паульхаусе» на успокоительных таблетках.
— Мне надо было с кем-нибудь поделиться, — сказал он. — Я рассчитывал, что вы останетесь сумасшедшим и информация не выйдет наружу. Увы, не сработало.
— Слыхали насчёт Иокаса?
— Ну конечно.
— Собираетесь повидаться с ним? Или у вас другое задание и вы всего лишь воспользовались служебным транспортом?
Вайбарт покосился на меня и вдруг как будто выстрелил странным недобрым взглядом. Довольно долго он молчал, но потом всё же ответил не без очевидного сомнения:
— Я и вправду воспользовался предлогом как издатель. Но мне очень хочется в последний раз поглядеть на него живого.
— Вы были знакомы? Встречались?
Вайбарт вздохнул.
— Я был с ним знаком, хотя и не сумел понять его как человека, совершенно изменившего мою жизнь. Думаю, такое случается довольно часто — и это всегда удивительно. Но что меня поражает: предоставив мне работу в фирме, он отлично знал, что я перееду в Лондон и заберу её с собой. Зачем он сделал это, если у него и у неё были такие чувства? Почему не предоставить мне ещё четыре года губить себя в консульстве, потихоньку поднимаясь до канцелярской крысы и до треклятого советника где-нибудь в Анкаре или в Полисе?[82] Когда мне неожиданно открылась правда, я зажмурился и постарался вспомнить лицо добрячка. «Значит, это был он, — сказал я себе, — всегда он». Ладно, сам знаю, что фраза не того; но меня словно ударили промеж глаз. А потом её смерть. Всё до того поразительно, что мне и теперь ещё не верится. Но я хочу ещё один раз посмотреть на него — Феликс, ведь в нём моя единственная связь с Пиа. Господи, какая же грандиозная обманщица наша жизнь, какая же она двурушница.
Глаза у него наполнились слезами, которые он по-мужски попытался скрыть, сморкаясь в платок и тряся головой. Он топал ногами и чертыхался, а потом вдруг, ни с того ни с сего, повеселел. Собственно, ничего странного в этом не было: стоит человеку выговориться, и у него легчает на душе; можно как будто и порадоваться, хотя положение остаётся таким же отчаянным или неприятным.
— Ну вот, — произнёс он, решительно комкая платок и откашливаясь. — Ну вот. Хватит об этом.
Бедняга Вайбарт и его красавица жена; мне даже стало стыдно из-за перевоспитанной Бенедикты, спящей по соседству. Но смерть?.. Мы все, как муравьи, ползаем по Великому Ложу Всякой Всячины, поглощённые нашими так называемыми проблемами; а нечто немыслимое, неведомое в это время заглядывает нам в лицо.
— К чёрту смерть, — громко проговорил Вайбарт, словно читая мои мысли. — Это всего лишь предварительное решение, принятое людьми, которые не справляются со своими душевными неурядицами.
— О чём вы?
— Конечно же, о вечной жизни. Люди бессмертны, старина; это как кнопка, которую все боятся тронуть, потому что на ней ничего не написано, и все боятся, как бы чего не вышло, если на неё нажать. Кнопка неведомого.
— Вайбарт, вы придумываете.
— Да. Хотя нет. Я серьёзно. — Печальный задумчивый взгляд вновь скользнул по мне, после чего Вайбарт поудобнее устроился в кресле. — Суть в том, — продолжал он, — что всё имеет свою противоположность. Например, этот человек ранил меня в самое сердце, из-за чего, естественно, я возненавидел его — и ненавидел долго, целеустремлённо, яростно. А потом постепенно ненависть превратилась в извращённую привязанность. Да, я ненавидел его за то, что он сделал мне; но в конце концов я полюбил его, я почувствовал благодарность к нему за свои страдания. Вы понимаете? Ничего подобного я бы иначе не испытал, а ведь это бесценный опыт, который, не будь его, остался бы для меня неведомым. И теперь у меня двойственное чувство: любовь-ненависть. А ещё меня гложет любопытство, мне хочется поглядеть на него — на полубога, который держит в своих руках будущее человека и его счастье. И даёт изощрённые уроки страдания и самопожертвования — ведь, насколько я понимаю, посылая меня в Англию, он знал, что я возьму её с собой. Неужели он больше заботился о фирме, чем о ней? Неужели она всё понимала и это решило её судьбу, заставило её покончить с собой?
Что тут можно сказать? Очевидно, что его постоянно и жестоко грызли эти вопросы; именно из-за них поседели его светлые волосы, густые и как будто пропылённые, из-за которых его лицо сияло необычной чистотой. Этим же вопросам он был обязан своей стройностью — потому что люди, которые плохо спят, как правило, худеют. Никогда прежде он не выглядел привлекательнее и здоровее; на его усталом, изящном лице не осталось и намёка на округлость, оно стало зрелым и обрело ту самую завершённость, которую теперь могла сохранить навсегда лишь посмертная маска. Ни убавить, ни прибавить. (Я поймал себя на том, что думаю как создатель кукол, который не в силах отвлечься от мыслей о давлении-натяжении заменителей жил, костей, нейлоновой кожи.)
— Вы знали, — спросил он, — что у нас незадолго до её смерти был ребёнок? Да, был, скорее, у них был ребёнок. Во всяком случае, для Пиа это было слишком поздно, поэтому и родился даун — жуткий уродец с ластами. Слава богу, он скоро умер — впрочем, не знаю, сам он упал или его толкнули. Думаю, Пиа разделалась с ним из отвращения, и хорошо сделала, если, конечно, это действительно она. И пошло-поехало. Всё так же в бесконечном mélopée[83]. Уф! Мой милый Феликс, что же это я надоедаю вам своими россказнями, когда у вас и своего хватает? Теперь я тоже, время своё дело делает, не доверяю фирме и боюсь её, особенно после того, как понаблюдал за вашим фиглярством, вашей долгой борьбой за идею личной свободы, которая не должна ограничиваться мерлиновским спрутом. И мне хотелось восстать против этого нравственного вскармливания, убежать подальше, подобно вам, чтобы спрятаться и начать что-то чистое, что-то по-настоящему моё. Но потом я решил, что у нас неправильная точка зрения. То есть мы неправы, когда смотрим на фирму как на нечто кафкианское, давящее на нас извне; настоящее давление происходит изнутри, оно в нас, давление бессознательного, находящегося внутри сознания, вроде разбитой арфы. Как раз её нам надо починить, испытать и направить на создание… скажем, Красоты.