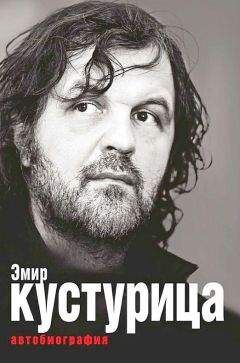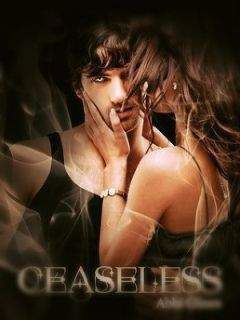В «Барышне» Андрич описал ту самую руку, которая, уже после его физической смерти подымется, чтобы уничтожить его памятник.
Вскоре после насаживания на ручку в «Vox»-е, нобелевский лауреат пострадал и в Вышеграде. Там был разрушен его памятник, стоявший между мостом и городской гимназией. Совершил это некий Мурат Шабанович. Это был тот самый типаж, описанный в «Барышне», возникающий во времена больших боснийских перемен, только одетый по другому. Тут уж и я начал задавать себе вопрос прощелыги Керы:
- И где теперь в этой истории место для меня?
Мертвому Андричу снесли памятник, что же тогда они сделают с живым мной, если я не стану согласовывать свое перо с идеями мусульманских умников? Что бы ни произошло, никогда не отречься мне от далматинского сала, копченого на краинских ветрах. Никогда не позабыть, как добывал я свои лошадиные дозы аминокислот намазывая свиной жир на посыпанную красным перцем горбушку. Даже Андрич в своих произведениях не смог предвидеть все поступки своих героев. Интересно, изменилось бы что-нибудь, прочитай Шабанович сначала «Мост на Дрине», решился бы он тогда разрушить памятник? Может, его б так разозлили содержание книги или стиль автора, что он разрушил бы памятник, чтобы выразить свое несогласие с писателем? Понятия не имею. Может, напротив, решив подождать несколько дней и прочитать сначала роман, он покрыл бы потом бюст писателя лаком? А если он ничего андричевского не читал, стоило б применить к нему такую исправительную меру, как принудительное прочтение избранных произведений Андрича! Как бы это на нем сказалось? Может, уже через несколько страниц пережил бы он нервный срыв, дрогнул, как мост, прогибающийся под давлением, когда рассыхается перенапряженный бетон. Второй день чтения довел бы Шабановича до отчаяния:
- Лучше убейте меня, пока я сам себя не убил, невозможно выносить это издевательство, - закричал бы он в животной тоске. А я, как всегда в том, что касается Андрича, остался бы неумолим и не отпустил пациента с лечения, пока он не прочитает все произведения Иво Андрича до последнего.
Дружеские посиделки в сараевских домах вроде тех, что были у нас на улице Кати Говорушич 9а, являлись заметной частью общественной жизни Боснии. Отцовские партизаны-однополчане, сараевская элита, привносили в атмосферу дома свои остроумие и индивидуальность. Титову власть они воспринимали с иронией. С этой же иронией столкнулся и я в Праге, чтобы потом вернуть ее в Сараево, и с помощью сидрановых диалогов, отражавших стереотипы местной жизни, воссоздать мифологию Сараева. В эту мифологию не вписывались те, чья ограниченность позволила не читавшему «Моста над Дриной» человеку разрушить памятник нобелевскому лауреату. Должно быть, все эти умники роились вокруг Изетбеговича, в ожидании и своих пяти минут. Наверное они, так же, как и мы с Неле и Сидраном, брали за основу драмы отцов и переводили их на свой язык, создавая стихи, романы и фильмы. Когда-то я, в качестве наказания за плохие отметки, вынужден был сидеть в гостиной и слушать, как балагурят старшие - а теперь пытался представить себе, как выглядят посиделки, на которых родилась идея разрушения памятника одному из столпов европейской литературы.
... Приезжают Крешевляковичи на дачу к Изетбеговичу. После освежающих безалкогольных напитков, сыновья градоначальника Сараево принимаются озорничать. Алия:
- Бог ты мой, Мухамед, как же выросли Сенад с Сеадом!
- Ох, лучше не напоминай, не трави душу! - отвечает Мухамед.
- Да ладно тебе прибедняться-то, отличные мальчишки, ты посмотри на них, красавцы прямо!
Младшие Крешевляковичи уступают авторитету дяди Алии.
- Да конечно отличные, хорошие ребята, но только не спит шайтан, Боже упаси от бесовского искушения! Как начнут шалить, никак их не остановишь. Ну-ка, что это ты там говоришь соседу Ковачевичу, когда с ним ругаешься?
- Чтоб тебя мама родная в мясном пироге узнала! - говорит первый младший Крешевлякович, а второй добавляет:
- По глазам!
- А и впрямь, раз может этот Неле Янкович рассмешить целую Югу[36], почему б и этим твоим не посмешить Боснию? - добавляет дядюшка Алия.
- Да как же они окажутся на телевидении?
- Ну ладно, не обязательно на телевидении, много есть и других средств информации. Отправь их, как закончат школу, учиться - хватит уже у нас в Боснии этим Янковичам играть мусульман и отпускать на наш счет шуточки!
А Крешевляковича долго упрашивать и не понадобилось.
- Похоже, что у нас тут настоящий шедевр, - подумал президент Изетбегович, будто МакЛарен, услышавший первую песню «Секс Пистолс». Младшие Крешевляковичи встретились с Зорни и выполнили пожелание дядюшки Алии, основав газету «Vox», на чьи страницы они выплеснули тонны грубых рисунков, всякого свинства, которым они еженедельно разрушали мирную совместную жизнь в Боснии. Своими вульгарными остротами они хотели сбросить с трона короля сараевского юмора Доктора Карайлича. Пытались они вместо игры со стереотипами и исполнительского мастерства Неле, утонченностью сравнимого с искусством цирковых гимнастов на трапеции, создать новый тип остроумия. Эта эстетика, возникшая среди интеллигентов-умников, накликала бурю, хотя пока еще не овладела первой линией средств массовой информации. Умники еще не успели закрепиться на телевидении и в популярных газетах.
Хотелось мне, чтобы Джонни познакомился с тайной красотой сараевской жизни. Для этого повел я его в гости к моему приятелю Младену Материчу.
Когда Младен поставил на проигрыватель «Дуал» пластинку Лу Рида, Джонни мог прочитать в моих глазах восхищение и радость, которые, я уверен, ему было трудно связать с Лу Ридом. Ведь для него слушать «Take a walk on a wild side» было делом совершенно обычным. А я все время повторял:
- Did you see it?
Он не понимал, в чем дело.
- What do you mean?
- My friends, thеy like Lou Reed.
- А что в этом такого? - подумал Джонни и вслух сказал:
- Yes, man, great people.
Не догадывался он, что эти минуты в доме Младена были прекраснейшим, что можно понять о Сараево. Вот это вот непринужденное перетекание Запада и Востока, эта притягательная смесь стремящихся друг к другу сторон света, стирающая грань между ренессансным разумом и меланхоличной восточной духовностью. Эта лирическая волна, различимая в песнях Заима Имамовича, захлестнула и театральные постановки Младена, и мои фильмы, и наши мысли. А склонность к бесконечному распиванию турецкого кофе грозила Младену тем, что он так и встретит свою семидесятую годовщину в этой соблазнительной восточной позе, развалившись на подушках, в кофейне на Авде. Раскурив свернутый Младеном косяк, чувствуешь Сараево местом чистого кайфа. Даже Скерличева улица начинала казаться не таким уж плохим местом. Крутая, зимой опасно скользкая, мрачная, стиснутая жилыми домами средней высоты. Когда выпадал первый снег, асфальт прихватывало ледком, машины начинало заносить и они постоянно бились друг о друга. Водомоина, превращенная в улицу, как сказал бы Андрич.
Форсировали мы этим вечером косяки, как когда-то партизаны поля, чтобы вдарить по гитлеровцам. Заметно было, что Джонни планокур с опытом. Тогда-то я и увидел стремительно завертевшиеся на обледеневшей улице автомобили и потом все время, как на монтажном столе, перематывал их столкновение назад и рассматривал его снова и снова. Пока мы расслаблялись в гашишном тумане, картинка нашего родного города начала растворяться. Мусорные контейнеры под младеновыми окнами дымились от горящего мусора. Если не обращать внимания на неприятный запах, это зрелище было по своему притягательным. В этой дымке возникали киты, дельфины и другие картинки-призраки, порожденные марихуаной. И иногда на поверхность ее вдруг выныривал Младен с рассказом о скитающихся китах, или мне приходило в голову, что брусника произошла от Брюса Ли. Смеялся Джонни, смеялась Веша. А мне было невероятно смешно, ну как это так я не могу объяснить Джонни, что происходит в моем родном городе. И слова были бесполезны. Даже попытка проговорить то, что ждет нас завтра, оканчивалась смехом. Сначала легким, а потом смехом-истерической реакцией на действительность, которая больше напоминала догадку, чем ощутимую ткань жизни. Каждая попытка справиться со смехом и прийти в себя приводила к новым конвульсиям. После долгого, неостановимого клокотания, только одна вещь осталась у меня в памяти. То, как жаль мне было, что я оказался не в состоянии объяснить Джонни, чем же так необычен этот сараевский дом, в котором слушают Лу Рида и Боб Вилсон - общий кумир.