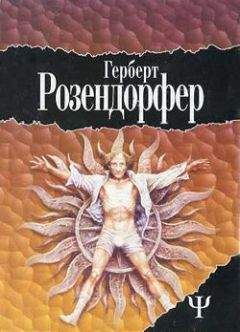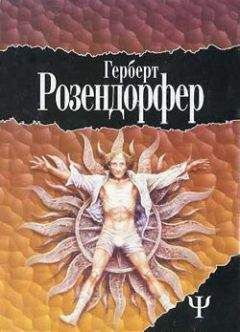Кессель спросил у Курцмана, не мог ли бы он оставаться в отделении после работы, всего на часок-другой, чтобы писать.
– Вы с ума сошли! – удивился начальник, – Оставаться здесь одному, когда никого нет? Да это строжайше запрещено! Почитайте инструкцию.
– Жаль, – вздохнул Кессель.
Курцман снова высоко поднял брови над очками и спросил без тени иронии:
– А кто вам мешает писать в рабочее время?
Вот так и получилось, что рассказ о бутларовцах (он назывался «Боги не ведают срама») Кессель писал на службе. Только 31 и 1 он работал дома, для чего ему пришлось снова вытащить письменный стол и поставить его в бывшем кабинете. Зайчикины вещи он сгреб в охапку и отложил в сторону («отшвырнул», как расценила это Рената). Он не стал бы этого делать, то есть ни писать, ни убирать вещи, если бы за все четырнадцать дней, проведенных на семинаре, сумел написать хотя бы строчку. Сначала он пытался работать на лекциях, но вскоре убедился, что это невозможно.
Дома – Кессель уже привык говорить и думать об этой квартире не как о «своей» или «нашей», а как о «квартире Ренаты». – дома была Жаба. Простуда не мешала ей говорить, а уж рыдать – тем более.
Да, дома Жаба, подумал Кессель, дойдя до конца Вернекштрассе и остановившись в нерешительности: куда пойти дальше, он пока не знал.
Вспомнив, что сегодня вторник (у него весь день было такое чувство, что сегодня понедельник, потому что вчерашний день был нерабочим), он подумал, не зайти ли к Вермуту Грефу на очередную «исповедь». Тем более, что и унылая погода, казалось, сама к этому располагает.
Греф жил недалеко оттуда, на Изабеллаштрассе. Кессель свернул на Фейличштрассе и пошел в том направлении. Осенью многое кажется иным, например, фасады. То ли это из-за рассеянной в воздухе невидимой влаги, мириадов мельчайших капелек тумана, то ли от того, что сумерки наступают так рано?… Дома и вправду теряют краски. Их фасады становятся холоднее, жестче, и дома словно уходят в себя. Поздней осенью, в ноябре зайти в чужой дом делается труднее. Дома как бы противятся вторжению, их окружает плотная, легкая защитная оболочка. Там, внутри, уютно и тепло, но эта теплая сердцевина как бы уменьшается в объеме: она больше не касается стен и не проникает наружу. Летом сквозь окна домов можно заглянуть внутрь. Осенью – только наружу. Каменные завитушки на старинных стенах беспомощно повисают в сыром воздухе, жильцы о них забывают. Дай Бог всем этим аркам и эркерам, портикам и рельефам счастливо пережить зиму.
Пройдя почти всю площадь, Кессель вспомнил, что Вермут Греф хотел провести всю эту, пусть и укороченную из-за праздника неделю в Китцбюэле вместе со своей собакой, которую звали Жулик. Несколько лет назад Греф летом случайно попал в Китцбюэль и завел знакомство с работником одной из гостиниц. С тех пор он проводил там все свои отпуска, отгулы и выходные, даже зимой. «Даже» в данном случае означало, что знаменитое высказывание Рихарда Штрауса, переведенное Куртом Вильгельмом с французского на немецкий: «Лыжный спорт есть занятие для деревенских почтальонов в Норвегии», было не только любимой цитатой Грефа, но и его жизненным кредо. Однако в последнее время Греф носился с мыслью купить себе беговые лыжи.
– Я тоже люблю зиму, – отговаривал его Кессель, – я очень люблю и снег, и холод, и именно поэтому в принципе отвергаю всякие лыжи.
– Так лыжи-то беговые… – возражал Греф.
– Для меня лыжный спорт не оправдан даже как занятие для деревенских почтальонов в Норвегии. Без лыжников и Норвегия была бы значительно краше.
– Так я же только для бега! – оправдывался Греф. – А бег – это не спорт, это как прогулка по снегу, только на лыжах.
– Это просто отговорка, дань моде, и ты сам это прекрасно знаешь. Ты пытаешься заглушить голос совести.
Грефа это явно смутило. Одно то, что ему не пришло в голову остроумного ответа, уже говорило о многом.
И тем не менее Греф, как вспомнил Кессель, именно в эту неделю решил снова поехать в Китцбюэль. Правда, без лыж. Пока.
Кессель повернул обратно и пошел по направлению к Английскому саду. В маленьком кинотеатре напротив только что закончился сеанс. Фильм назывался «Летний роман». Из зала вышли две старые дамы Обменявшись презрительными взглядами, точно каждая считала другую недостойной никаких романов, тем более летних, они разошлись в разные стороны.
Неделю назад осень была еще разноцветной, на деревьях сверкали красные и золотые листья, а небо было голубым и ясным. Сейчас деревья уже почти совсем оголились, их переплетающиеся черные ветви напоминали сети, а редкие пожухлые листья – чьи-то запутавшиеся в сетях ладони. Опавшие листья на асфальте больше не были золотыми и красивыми: они отсырели, слиплись и потемнели. Как тонка грань между золотом и грязью, подумал Кессель, между глазами Юлии и Жабы.
Озеро Клейнгесселоэр Зее лежало, как туго натянутое покрывало из черно-серого шелка: окунуться в него, наверное, было бы трудно, вода не пустит. Одинокий лебедь, низко склонив голову, раздвигал ленивые волны. Спустился туман, и верхушки деревьев исчезли из виду С далекого дерева, возвышавшегося подобно темному острову посреди белой неизвестности тумана, застилавшего луг, поднялась ворона. Над озером не раздалось ни звука. Даже ворона не каркнула ни разу.
Обойдя вокруг Клейнгесселоэр Зее, Кессель вспомнил, что Якоб Швальбе тоже живет недалеко отсюда. На курсах Кессель пару раз подумывал, не зайти ли к Якобу Швальбе во время обеденного перерыва, но, во-первых, после, занудных утренних лекций его одолевали такая усталость и лень, что идти уже никуда не хотелось, а во-вторых, перерыв начинался в двенадцать, а уроки у Швальбе, как помнил Кессель, заканчивались не раньше часа, так что домой он приходил только в половине второго. А в два у Кесселя снова начинались лекции.
Кессель посмотрел на часы. Была половина четвертого. У церкви Св. Сильвестра уже горели фонари, превращая пелену тумана и низкое серое небо почти в настоящую ночь. Впереди показались две женщины и мужчина, они шли навстречу Кесселю: женщины по бокам, мужчина в середине, держа их под руки. Кроме них, на улице не было видно ни единого человека. Все трое были одеты в черное. В левой руке мужчина нес венок, в правой – сетку-авоську с цилиндром, что удавалось ему не без труда, потому что он держал под руки обеих своих спутниц. Мужчина, судя по всему, рассказывал анекдоты, так как все трое регулярно останавливались и корчились от смеха, тем не менее не выпуская рук друг друга.
Кессель решил рассказать Швальбе про встречу с этой троицей, явно направлявшейся на Северное кладбище, про венок и про цилиндр в сеточке.
Но Швальбе дома не оказалось.
Дверь Кесселю открыла жена Швальбе, Юдит.
– А Якоба еще нет, – сказала фрау Швальбе – Но вы все равно заходите, мы можем подождать его вместе.
Они прошли в большую, темную гостиную. Одну стену почти до потолка занимали полки с нотами и прочей музыкальной литературой Якоба Швальбе. В одном углу стоял круглый стеклянный столик и горела лампа с абажуром из синего шелка. Горел и торшер у рояля. Жена Швальбе выключила торшер и пошла на кухню ставить чайник. Кессель подошел посмотреть, что она играла: «Мендельсон. Прелюдии и фуги, опус 35». Ноты были раскрыты на четвертой, довольно-таки меланхоличной прелюдии ля-бемоль мажор. «Зеленая», – сказал бы Швальбе, гордившийся тем, что мог различать тональности по цветам, даже без абсолютного слуха. Ля-бемоль мажор был у него зеленым, таким темным, глубоким цветом, как у бутылочного стекла или нефрита, каким бывает лесной ручей в холодную ясную погоду. А фа минор скорее напоминает зелень мха, у него цвет насыщенный, сочный…
Кессель знал, что Юдит играет; Швальбе говорил даже, что у нее диплом пианистки. Они и познакомились с ней на какой-то музыкальной конференции. Но Кессель никогда не слышал, как она играет. Вообще-то он с ней никогда толком не разговаривал, хотя, конечно, видел ее каждый раз, когда заходил за Швальбе, чтобы «сыграть в шахматы», поэтому в первый момент он испытал даже некоторую неловкость, не зная, о чем с ней говорить и сможет ли он вообще говорить с этой дамой.
На Юдит было нефритово-зеленое платье с белым кружевным воротничком и такими же манжетами. В нынешних модах, подумал Кессель, особенно в женских, все так перемешалось, что не разберешь, где «последний писк», а где старье, которое просто забыли выбросить. В этом платье со множеством мелких, обтянутых шелком пуговок на груди (очень даже привлекательной груди, как убедился Кессель), Юдит показалась Кесселю похожей на портрет Аннетты фон Дросте-Хюльсхоф. Но похоже было только платье. Сама же Юдит напомнила ему «Дар совета» в церкви Святого Духа. Новая контора Кесселя находилась на Гертнерплатц, так что ему теперь часто приходилось ходить пешком по старому городу, а церкви он всегда любил осматривать, еще со времен «Св. Адельгунды» (возможно, в храмы его тянуло подсознательное желание искупить грех), однако эту картину он заметил лишь недавно, хотя в самой церкви был, наверное, раз десять. Судя по широким полям, она была написана под большую резную раму и прежде находилась где-то совсем в другом месте; сейчас она висела на высоте человеческого роста возле одной из исповедален. Об авторе картины ничего не было известно. Сбоку, рядом с картиной, была прибита табличка: «Дар совета». Однако относится ли она к картине или нет, судить было трудно.