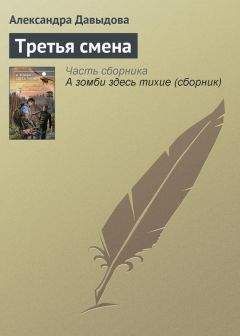— Ты ж знаешь. У меня отсрочка, пока учусь, то ладно. Но если Ром ищет, мне лучше сейчас свалить, пока берут в команду. Оно ж не всегда так. Повезло просто.
— Вот уж повезло… Сам сказал — на жестяном корыте три месяца болтаться.
— Ну, да. А может, потом в кругосветку пойду. Тут парусник есть, большой, через год ходит. В Африку там.
— Дурак ты, Сережа Горчик. Там виза нужна, паспорт моряка, Саныч говорил, а у тебя приводы. Тебе разве дадут?
Мальчик молчал, чуть отвернув лицо к пламени. Инга заговорила быстро, выпрастывая руку и откидывая со скул волосы:
— Господи. Ну что ж ты, и правда, такой дурак! Всю жизнь себе ломаешь, с самого вот начала. Молчи! И меня втянул, я ж переживаю, боюсь за тебя. Приехала вот. А ты даже сказать не хочешь, что у вас там с Ромом за дела.
— Не надо тебе. Меньше будешь знать, меньше скажешь. Если что.
— Если что — что? Если в ментовку меня вызовут, да? Вот уж нашла себе друга Михайлова! Другой бы, если любит, то сумел. Поменять все.
Профиль мальчика разгорался и тускнел. Дернулось жесткое плечо рядом с ее плечом.
— Откуда знаешь?
— Что?
Как всегда, когда нужно было сказать важное, самое важное, голос Сереги замедлился, становясь немного сонным.
— Что… люблю…
— А нет что ли?
Он так же медленно снова повернул к ней лицо. Раскрылись четко очерченные губы.
— Да.
И сомкнулись. Блестящие глаза смотрели прямо в темные Ингины зрачки. Она ждала, мучаясь. Сейчас он спросит, а ты? И она ответит. Но Горчик прикрыл глаза и снова отвернулся, не спрашивая.
Инга выдохнула, теряясь и не зная, радоваться или обижаться. Она его любит. Сейчас вот прямо. Сидит тут, плечом к его плечу. Знает, что скоро они лягут, рядышком, на два положенных стопкой старых матраса, покрытых каким-то покрывалом. Укроются, прижимаясь друг к другу. И до утра станут целоваться, так же, как в летней палатке. Но уже по-другому. Потому что одно дело просто целоваться с мальчиком летней ночью, около воды. И совсем другое — честно сказав Виве, куда она сорвалась, приехать в зимний незнакомый город, отыскать его в старом здании морского училища, уйти в пустой дом, где печка и кроме них никого. И лечь с ним, зная, что он ее любит. И если он будет знать, что она — тоже. Но вдруг она сделает хуже, ему. Ведь есть Петр и его письмо, полное размашистых строк, в которых то, о чем ей мечталось на исходе лета.
«Как ты, мой храбрый цыпленок? Я почти закончил картину, вышлю тебе фотографии с выставки. Жаль, на них не будет твоей смуглой серьезной мордочки, рядом с картиной, висящей в светлом зале»…
Целый листок слов. И в самом конце его: помни, ты обещала, когда приеду, ты меня встретишь.
Она долго сидела с письмом. Все ждала, что сердце выберет, одного. Но оно и не собиралось. Будто эти двое, такие разные, были для Инги — одним. И отказываться от одного было так, будто отрывать от себя живой кусок. Пока себе не призналась, что влюблена в Горчика, было проще. Он друг, а Петр — любимый. Ради друга конечно можно сорваться и ехать, чтоб предупредить об опасности. Но сейчас она ждет, когда улягутся, совсем не по-дружески.
В молчании трещала печка, стреляла искрами, стараясь развлечь двух серьезных детей, каждый из которых уже вступил в воду взрослой жизни, не зная, как дальше с этим быть. И утомившись ждать, в трубе ахнул и загудел ветер, очень сильно.
— Надо открыть вьюшку, — сказал Горчик, не двигаясь, — а то дом спалим. И себя.
— Нас точно не выгонят?
— Не. Гапча за свою бабку тут дежурит, вот сегодня вместо него мы, утром придет, нормально. О, пока не забыл.
Он вылез из одеяла, прошлепал ногами в толстых носках в угол, пошерудил в брошенной там сумке. Вернулся и, садясь, положил Инге на ладонь два ключа на колечке.
— От комнаты. Ты там смотри иногда, а то вдруг окно выбьет или еще что. Сумеешь не рассказать, что у тебя ключи? До лета ж надо.
— Сумею. Я просто молчать буду, если что.
— Правильно. Слушай…
Она посмотрела в серьезное узкое лицо. Огонь светил на короткие волосы, торчащие ежиком надо лбом. Заливал серые глаза розоватым светом.
— Ты его не разлюбила?
Инга опустила глаза. Можно промолчать. Все равно, что ответить.
— Нет. Извини.
Горчик тоже опустил лицо. Как хорошо, подумал ватно, что я про себя не спросил. Так же и сказала бы — тебя не люблю, Сережа. Или — ты мне друг, Горчик. Не хочу этого слышать.
— Хочешь если, я лягу там, в кухне. Диван там. Я…
— Нет, — быстро ответила девочка, — я с тобой хочу. Лежать вместе. И спать с тобой.
— Да?
— И целоваться. И, вообще, заткнись, а то я зареву сейчас.
И уже задышала часто, упорно глядя в огонь и прикусывая нижнюю губу. Дернула под одеялом плечами, когда Горчик попробовал их обнять. Зажмурилась.
— Эй, — сказал осторожно, становясь рядом на четвереньки и вытягивая шею, — эй-эй.
— Что? — сиплым басом спросила, открывая глаза и скосив их в такие же скошенные серые глаза, у самого своего носа. Светлые брови мальчика задрались вверх, изобразив мультяшное удивление.
— Пьяная муха!
Инга расхохоталась, всхлипывая.
— Теперь ты, — предложил Горчик, по-прежнему немилосердно кося глазами.
— Сей-час. Так да? Пьяная му-уха-а-а!
Вместе смеясь, они встали. И закутав девочку в одеяло, Серега подтолкнул ее к двери.
— Пойдем, надо в сортир сгонять, я посторожу, с фонарем. А то в кустах ногу сломаешь. И ляжем.
— Да, — согласилась Инга, — ляжем, давай уже скорее, я все же мерзну.
За прикрытой не до конца дверцей тихо маялся мирный огонь, устав стрелять горящими ветками и насыпанным поверх углем. И ветер чуть-чуть утих, выл ровно, гудел в трубе, качал деревьям их зимние голые ветви, катил по переулку смятые бумажки и неизвестно откуда прибежавший комок степной травы.
Это не секс, думала Инга, под одеялом вытягивая руки, чтоб мальчику было удобнее стащить с нее толстый свитер. Конечно, это не секс. Тогда что это, думала она, прижимаясь к нему бедрами, и вздрагивая от горячих рук на голой пояснице над расстегнутыми джинсами. Если это, вот это — когда теплые губы трогают грудь, и в этом совсем нет тяжелого, приторно-сладкого, что тянется темной вязкой нитью, выматывая нутро, если это, такое невесомое, легкое, такое полное нежной радости, не секс, тогда это что?
Думала и забывала додумать, повертываясь, и сама расстегивая рубашку, чтобы прижаться ухом к гладкой груди, там, где за ребрами колотилось сердце, из-за нее колотилось. И нужно было успокоить его, поцелуями. Это важнее, чем задавать себе вопросы, мучаясь и ища на них ответы, мучаясь — верные ли они. Ничего не стало вокруг, кроме узкого горячего тела, такого… такого, летящего к ней, и вдруг замирающего, за секунду до того, как она замерла бы сама, остановленная данной Виве клятвой. И уже без страха, зная — он ее бережет, она снова трогала голые плечи, проводила пальцами по впалому животу, чуть опускаясь ниже и останавливаясь, урывками вспоминая Анжелкины опытные рассказы, о том, что они мужики, не бабы, им терпеть нельзя, а то ихние яйца… Его, значит. Ему нельзя терпеть, а она его мучает. И потому, держа руку на теплом мальчишеском животе, спросила еле слышно, вытягиваясь рыбой — поближе к уху:
— Ты, может быть, хочешь, ну, так чтоб…
И выдохнула с горячей благодарностью, когда он шепотом ответил:
— Дура ты, Михайлова. Мне хорошо.
— Я не дура. Я Инга.
— Еще какая. Можно, я тебе придумаю? Имя. Чтоб только наше.
— Конечно. Мальчик-бибиси. Только наше.
Она ждала, прижимаясь к его груди ухом, слушала сердце и, смеясь, потормошила, опуская ладони за спину, под пояс его брюк.
— Ну?
— Потом. Не придумал еще.
«Потом», думала, закрывая глаза и покачиваясь в мягкой воде его поцелуев. Потом. У нас с Сережей будет потом. Как хорошо, что каждый раз у нас есть и потом тоже. Хочу, чтоб всегда так.
А он, обнимая и прижимаясь, откачиваясь, чтоб найти еще место поцеловать и еще одно, думал стесненно, спохватываясь и поправляя сам себя. Она такая — большая вся. Ну, не так большая, а для губ. Черт, не хватит же времени. Когда ходила, летом, то вот под коленками. Там еще. И где косточка на щиколотке. Так много всего.
— Ты куда, — смеясь, она поджимала ногу, — щекотно.
— Я тут, — снова высовывал голову из-под одеяла. Рычал, обхватывая ее, утыкался носом в шею. И замолкав, медленно целовал около уха…А еще, когда сидели там, в комнате, и было темно, думал, где уголки губ, там у нее…
— Щекотно!
— Скажите, нежные мы какие. А так?
— Так — хорошо.
Она уже вздыхала совсем сонно. И неудивительно, поднялась рано, ехала, нашла его, а после ходили по стылому городу, ели пончики в гулкой столовой, поехали на длинный пляж в Камыше — она попросила, давай туда, где купались в прошлый раз. Устала. Ляля моя, думал, обнимая и подчиняясь ее ладошке, которой она прикладывала его руку к своей груди. Моя ляля, кукла моя золотая, моя ленивая быстрая цаца. И смущенно улыбался в темноте, не решаясь сказать это вслух. Такие смешные слова. Она сразу придумала, она умница. Теперь он ее Сережа-бибиси. А он что? Ну не кошечкой же звать! В его сонной голове, где уже смешивались слова, переплетая хвостики и лапки, оставались только вот эти, смешные, как ласковые касания. Как губы на мочке смуглого уха. Моя цоня, лаконя, мое рыбное золото, моя-моя-моя ляпа моя ляпушка капушка…