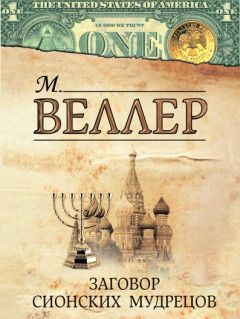Как все герои, Ленька был великодушен и забывчив. Через несколько дней вопрос о рубле, к моему облегчению, заглох. Радостью я поделился с отцом.
К моему разочарованию, поддержки в нем я не обнаружил. Отец преподнес мне те истины, что, во-первых, спорить вообще нехорошо, во-вторых, спорить на деньги особенно нехорошо, в-третьих, спорить на то, что не тобой заработано — вовсе плохо, но не отдавать проспоренное — не годится уже совершенно никуда. И выдал рубль.
Я вручил Леньке рубль. Он принял его, быстро скрыв уважительное удивление, с превосходством насмешки над неудачником и вдобавок дураком. Я ожидал иной реакции. Я слегка обиделся.
Но жить стало легче: исчезла опасность напоминаний, осталось сознание правильности поступка.
4
Первый перекос мое представление о необходимости отдавать долги получило на собрании абитуриентов, где Надька Литвинова одолжила у меня рубль до завтра, и это светлое завтра еще не наступило. У нее ни в коем случае руки не были устроены к себе, раздавая пять лет как староста группы стипендии она вечно себя обсчитывала, кому-то давая больше — и ей не всегда возвращали: легкая натура, не придавала она значения рублю. Рублю я тоже не придавал, а факт — ну засел, что ты поделаешь. Первый раз памятный.
Позднее я помню всего четыре случая, когда мне не возвращали. Черт его знает, не верится, чтобы всего четыре. Я задолжал куда больше, ого. Хороший я такой, что не помню, или скотина, что мне отдавали, а я нет — затрудняюсь определенно сказать.
Как я впервые не отдал — тоже помню отлично. В сентябре, в начале второго курса, собирались мы на какую-то пьянку. (Написал «пьянка» и споткнулся — предложат ведь заменить «вечеринкой», «днем рождения». И пусть слово цензурное, общелитературное, всеми употребимое… А, — я сам раньше заменю…) Да, и мне срочно требовались два рубля, причем не на вино, а на цветы. Кому цветы, зачем — позабылось, но точно на цветы. И занял я у Машки Юнгмейстер, и у Машки дочка кончает школу, и Машка наверняка ни сном ни духом про эти два рубля не ведает — а у меня память. Сколько раз я хотел отдать. Или цветов ей принести. Или конфет. Фиг. Не до того.
5
Мы все собираемся когда-нибудь раздать все долги.
И наступает время. Или так и не наступает.
Господи, деньги у меня есть — больше нужного, машина, дача и лайковое пальто мне ни к чему, родные обеспечены, алименты платить не на кого, ресторанов я не переношу, пить избегаю, нынешние мои знакомые сами в достатке, а я столько в жизни добра от людей видел, клянусь, иногда злобишься: «Стану сволочью — насколько легче заживется», — да оттаиваешь при касании участия человеческого…
Привлекает и благородная праведность — разбогатев, воздать за добро сторицей. Ну, сторицей — не шибко-то и получится, — но воздать. Желательно с лихвой.
«Понял?» — сказал я червячку, шевелящемуся в безмятежном довольстве моей души. И червячок явственно пообещал превратиться в благоухающую розу, лучшее украшение этой самой моей души.
6
По порядку — первый долг следовал Машке. Я запасся бутылкой сухого, тортом, купил букет белых цветов, названия которых и поныне не знаю — они одни зимой и продаются у нас, кажется хризантемы, — и отправился. Адрес еще уточнил в госправке.
Перед дверью постоял. Покурил.
Машка сама открыла. Толстая, нездоровая на вид. Секунду смотрела, узнавая.
— Ой, Тишка! — и повисла у меня на шее. — Тыщу лет!
Я видел ее как бы раздвоенно, не в фокусе, — глазами и памятью, и было чуть больно и печально, пока изображения не совместились и она не стала прежней Машкой, какую я всегда знал.
— С цветами! С бутылкой! Ну же ты лапуня!..
— Машка, — сказал я, — за мной должок.
Она отодвинулась взглядом.
Я вынул два рубля и подал:
— Восемнадцать с половиной лет. Вот — взбрело в голову…
— Ты что, спятил? — осведомилась Машка с собранным лицом. Она, похоже, заподозрила, что я решил расплеваться и демонстрирую жест.
— Спокойно, — успокоил я. — Просто я, понимаешь, немножко разбогател, и вдобавок мне нечего делать; и вдруг как-то припомнилось…
Она с исчезающей опаской послушалась, взяла:
— И черт с тобой, — удивилась она. — Раньше я за тобой ненормальностей не замечала. Да раздевайся, чего встал. Или только за этим приехал?
— Обижаешь, мать, — облегченно поспешил я. — Накормишь?
— Другой разговор. Цветы. Ну обалдеть! Спасибо, — чмокнула меня и впервые удалилась из захламленной прихожей: — Вова! Кто к нам пришел!
Вовку Колесника, ее мужа, я знал со студенческих времен. Изменился он мало; приветствуя, мы друг друга похлопали.
Продолжалось обыденно: ну, пришел в гости… быстрое хлопотание, стол, рюмки, цветы в вазе. Представили свою шестнадцатилетнюю дочку, довольно милую, попутно упрекнув ее в слабовыраженности интересов. Сели вчетвером. Машка сияла.
— Где работаешь-то?
— Пишу, — сказал я; не то чтобы я надеялся, что они меня читали…
— Да? Где тебя печатали?
— Ерунда, — небрежно махнул я рукой. — Так, печатаюсь. Телефильм тут недавно, «Зимний отпуск», не смотрели?
— Нет. А что, ты ставил?
— Не совсем, — сценарий мой.
— Так молодец!.. — стали радоваться они. — Его по второй программе еще будут показывать? знали бы… чего ты не предупредил-то.
Вовка преподавал в институте, Машка по-прежнему торчала в библиотеке; разговор пошел о делах… Когда-то Машка здорово играла на гитаре. И пела. И могла в стройотряде матом поднять на работу бригаду ребят.
— …Гитара-то в доме есть, Машка? — спросил я.
— С ума сошел, — отреклась она, — десять лет в руках не держу.
— Возьми-и, — в голос заканючили Вовка и дочь Света.
После сухого Вовка твердо выдержал супругин взгляд и достал водку. Постепенно все стало хорошо, по-свой ски, без нарочитости и напряжения, Машка без повторных просьб сама принесла гитару и пела те, старые песни, и было приятно еще от того, как смотрела на меня — писателя — юная дочка. Отпустили меня только в половине первого, — поспеть на метро. Мне неловко было говорить, что поеду я все равно на такси. Да и — им-то завтра на работу.
Засыпал я с удовлетворением. Первый пункт намеченной программы был выполнен толково.
7
Со вторым долгом обстояло сложнее.
На третьем курсе я одолжил у дяди Валентина червонец.
Зимним вечером мы с ребятами в общежитии тосковали: изыскание ресурсов окончилось безнадежно. Я плюнул, оделся и пошел к дяде, благо жил он через два дома. Надо заметить, время перевалило за десять, а стопы в его дом я направлял второй раз в жизни.
Долго звонил, вознамерившись не отступать (они рано ложились). Дверь открылась неожиданно — дядя в ночной старомодной рубашке до пят холодно смотрел.
Я шагнул, набрал воздуха и принялся сбивчиво врать про замечательный свитер, продающийся срочно и безумно дешево, так необходимый мне в эту холодную зиму, — и не хватает всего восьми рублей. Не дослушав, дядя вышел, вернулся с десяткой, улыбнулся, потрепал меня по плечу, пресек приличествующие расспросы о жизни и здоровье и дружелюбно подтолкнул к выходу.
Червонец был пропит через полчаса.
Глубокую симпатию к дядиному стилю общения я храню.
Дядя умер через несколько лет.
Я купил шоколадный набор за шестнадцать рублей (дороже не нашел) и поехал к тете, его вдове, которую не видел десять лет.
Тетя стала суровой и даже величественной старухой.
— Никак Тихон, — сощурилась она. — Заходи. Никак в гости сподобился. Порадовал. А я думала, уж только на моих похоронах встретимся. В тебе крепки родственные связи.
Я был препровожден в комнату, картиночно чистую, словно вещи век хранили раз навсегда определенное положение. Последовали наливка и типично родственный разговор, который легко представит каждый… Я не мог решиться. Конфеты лежали в портфеле.
Но незаметно переключились на дядю: его доброта, таланты… и я в самых благодарственных тонах прочув ственно изложил ту давнюю историю. Тетка выслушала спокойно, тихо усмехнулась. И коробку конфет приняла как безусловно должное и приличествующее.
— Тетя Рая, — приступил я тогда. — Все собираемся, собираемся… Поймите правильно. Свербит у меня… Ерунда, — но… Поймите, мне просто очень хочется, возьмите у меня, пожалуйста, этот червонец.
— Что ж, — она кивнула согласно. — Давай.
Мы распрощались друзьями. Я чувствовал, что следующее свидание теперь произойдет раньше ее похорон. Хотя уже в подъезде понял, что вряд ли…
Чуть-чуть — чуть-чуть продолжало свербить…
С десятирублевым букетом я поехал на кладбище.
Там березы гасли в пепельном небе, тени затягивали слабо расчищенные в снегу дорожки. Я долго искал дядину могилу. Найдя, снял шапку, опустил цветы на сумеречный снег.