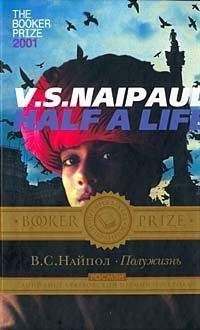Вскоре после заключения сделки фирма, привыкшая все делать с размахом, прислала к нам столичного архитектора, который должен был построить дом Грасы. Она едва могла поверить своему счастью. Архитектор, да еще из Португалии! Он поселился в одной из гостевых комнат главного дома. Его звали Гувейя. Он держался с нами по-столичному свободно и элегантно, и при нем все, что окружало нас, стало казаться старомодным. Он носил очень тесные джинсы и из-за этого выглядел немного тяжеловатым и мягковатым, но нам не приходило в голову критиковать его. Ему было за тридцать, и все члены нашего кружка заискивали перед ним. Он стал посещать наши воскресные ленчи. Мы думали, что — поскольку он приехал из Португалии и работает для фирмы, скупающей старые поместья в расчете на то, что прошлое вновь вступит в свои права, — мы думали, что он будет ругать партизан. Но мы ошиблись. Он говорил о грядущих кровопролитиях с наслаждением, почти как Жасинто Коррейя в былые дни. Мы решили, что он из тех белых, которые прикидываются черными. Люди такого типа только что начали появляться в колонии — щеголи, хорошо обеспеченные, чистокровные португальцы, вроде нашего Гувейи, которые в случае возникновения реальной угрозы могли сразу же удрать или еще как-нибудь позаботиться о себе.
Примерно через неделю прошел слух, что у Гувейи есть в столице любовница-африканка. Как всегда после появления новых людей, кто-то словно усиленно наводил справки, и еще через несколько дней мы стали слышать разные истории об этой женщине. Одна история была такой: любовница Гувейи ездила с ним вместе в Португалию, но отказалась заниматься там какой бы то ни было домашней работой, поскольку не хотела, чтобы тамошние жители приняли ее за служанку. Другие истории касались ее слуг в столице. В одной из них слуги всегда перечили ей, потому что она была африканкой и не пользовалась у них уважением; в другой кто-то спросил ее, почему она так сурова со своими слугами, и получил ответ, что она сама африканка и знает, как надо обращаться с африканцами. От всех этих историй отдавало ложью; в них говорилось о прошлом, и никто по-настоящему не верил им и не находил в них утешения, но их продолжали пересказывать. А потом эта женщина из столицы приехала к Гувейе на несколько дней, и в воскресенье он привел ее к нам на ленч. Она оказалась самой обыкновенной, с невыразительным лицом и оценивающим взглядом, замкнутой и молчаливой — деревенская женщина, переселившаяся в город. Через некоторое время все заметили, что она беременна; тогда мы и сами тоже притихли, как мыши. Потом кто-то сказал: "Вы ведь понимаете, почему он с ней связался? Он хочет подлизаться к партизанам. Думает, раз с ним живет африканка, они не убьют его, когда придут сюда".
Мы, Граса и я, любили друг друга в ее доме, пока его строили. Она сказала: "Мы должны окрестить все комнаты". И мы это сделали. Мы уносили с собой запах струганого дерева, опилок и свежезастывшего бетона. Однако новый дом притягивал к себе и других людей. Как-то раз, услышав голоса, мы выглянули из-за недостроенной стены и увидели кучку детей — невинных, искушенных, — которые испугались, заметив нас. Граса сказала: "Теперь мы уже ничего не скроем".
Однажды мы наткнулись на Гувейю. Я понял по его темным блестящим глазам, что он разгадал цель нашего прихода. Немного рисуясь, Гувейя стал объяснять, каким он собирается сделать дом Грасы. Потом сказал: "А я хочу жить в "Немецком замке". У каждого дома своя судьба, и замок должен принадлежать мне. Я превращу его в сказочный дворец, а после революции перееду туда". Я подумал об этой заброшенной усадьбе, о пейзаже вокруг нее, о немце, о змеях, и он сказал: "Да вы не пугайтесь так, Вилли. Я всего лишь вспоминаю "Живаго"".
Как-то вечером, когда лампочки еще мигали, Ана пришла ко мне в комнату. Я сразу увидел, что она страшно расстроена. На ней была коротенькая ночная рубашка, подчеркивающая миниатюрность ее фигуры и хрупкость костей. Она сказала:
— Вилли, это так ужасно, что у меня язык не поворачивается. На моей постели экскременты. Я только что заметила. Это дочь Жулио. Пожалуйста, помоги мне убрать. Пойдем и сожжем все это.
Мы пошли к большой резной кровати и быстро свернули всю постель в один комок. Лампочки моргали, и Ана как будто расстроилась еще сильнее. Она сказала:
— Я чувствую себя такой грязной. По-моему, я теперь за сто лет не отмоюсь.
— Пойди и прими душ, — сказал я. — Постель я сожгу.
Я отнес большой сверток в дальний, мертвый конец сада. Потом облил его бензином, отошел и бросил туда зажженную спичку. Вспыхнуло пламя; я ждал, пока простыни сгорят, а генератор все еще гудел и свет в доме становился то слабее, то ярче.
Это была плохая ночь. Ана пришла ко мне в комнату, влажная и дрожащая после душа, и я обнял ее. Она позволила себя обнять, и я снова вспомнил о том, как она позволила мне поцеловать себя в лондонском общежитии. Еще я подумал о дочери Жулио, которая после нашего приезда из Англии — тогда она была еще молоденькой девушкой — пыталась завести со мной вежливую беседу; которая украла у меня паспорт и остальные бумаги; и с которой я встретился, но не поздоровался, в одном из домов свиданий. Ана сказала:
— Не знаю, принесла она это или сделала прямо на кровати.
— Пожалуйста, не думай об этом, — сказал я. — Думай только, что утром ты от нее избавишься.
— Ты не мог бы побыть со мной утром? — спросила она. — Ничего не говори, просто постой рядом, на случай, если она вдруг что-нибудь выкинет.
Утром Ана уже выглядела собранной, как всегда. Она велела позвать дочь Жулио и, когда та пришла, сказала ей:
— Это был гадкий поступок. Ты жила в этом доме с рождения. Ты гадкая девчонка. Мне надо было бы сказать твоему отцу, чтобы он тебя выпорол. Но я хочу только, чтобы ты сейчас же ушла отсюда. Даю тебе полчаса.
Дочь Жулио сказала с нахальством, которому она научилась в домах свиданий:
— Я не гадкая. Вы сами знаете, кто гадкий.
— Уходи и больше не возвращайся, — сказала Ана. — Даю тебе полчаса.
— Вы не можете приказать мне не возвращаться, — сказала дочь Жулио. Когда-нибудь я вернусь, и это будет раньше, чем вы думаете. И тогда уж я не останусь в комнатах для слуг.
Я стоял в ванной за полуоткрытой дверью. Дочь Жулио знала о моем присутствии, я чувствовал это; и я снова подумал, как думал всю ночь: "Ана, Ана, что я с тобой сделал?"
Когда мы собрались на воскресный ленч на той же неделе, среди нас был священник из местного отделения миссии, только что приехавший с севера — там у них тоже были отделения. Он сказал: "Ни здесь, ни в столице люди ничего не знают о войне в буше. Здесь жизнь идет так же, как она шла всегда. Но на севере есть уже целые области, где правят партизаны. У них там свои школы и больницы; они вооружают деревенских жителей и учат их воевать". Гувейя сказал шутливо, по своему обыкновению: "И когда же, по-вашему, тишину нашей жаркой тропической ночи нарушит грохот артиллерии?" Миссионер ответил: "Возможно, вас уже со всех сторон окружают партизаны. Они никогда не атакуют населенные районы так, как вы говорите. Они засылают туда своих людей. Вы не отличите их от обычных африканцев. Они рассказывают всем о революции и подготавливают народ". И я вспомнил о впечатлении, оставшемся у меня от самого первого дня, — о бредущих по обочине африканцах, — и о более позднем впечатлении, когда местные усадьбы и поселки показались мне тонущими в африканском океане. Гувейя сказал: "Значит, по-вашему, меня могут в любой момент задержать прямо на дороге?" Миссионер ответил: "Это вполне возможно. Они окружают нас со всех сторон". Гувейя сказал, уже только наполовину в шутку: "Тогда я попробую улететь отсюда, пока не закрыли аэропорт".
Госпожа Норонья сказала своим пророческим тоном: "Одежда. Мы должны запасать одежду". Кто-то спросил: "Это зачем же?" После Карлы Коррейи еще никто не говорил так с госпожой Нороньей. Госпожа Норонья сказала: "Теперь мы как израильтяне в пустыне". Кто-то ответил: "Я никогда не слышал, чтобы израильтяне запасали одежду". И бедная госпожа Норонья, растерявшая весь свой авторитет медиума, признавая, что она запуталась в своих пророчествах, прижалась головой к плечу, закрыла глаза и была выкачена из нашей жизни. Позже мы узнали, что после прихода партизан к власти ее репатриировали в Португалию одной из первых.
Задолго до этого дом Грасы был закончен. Они с Луисом устроили новоселье. У них было очень мало мебели. Но Луис держался как настоящий хозяин; он предлагал гостям выпивку, наклоняясь к ним с почти доверительным видом. Через две недели он и его лендровер пропали. В колониальной полиции, которая тогда еще кое-как действовала, сказали, что его, наверное, похитили партизаны. Ни один чиновник из нашего города не имел связей с партизанами, так что прояснить ситуацию не было никакой возможности. Граса чуть не сошла с ума от горя. Она сказала: "Он был в отчаянии. Не могу передать тебе, в какое отчаяние он впал после того, как мы переехали в новый дом. Это должно было бы его обрадовать, но все получилось наоборот". А потом, еще через несколько дней, какие-то пастухи нашли его с лендровером на порядочном удалении от дороги, около пруда, на который они водили свое стадо. Дверца лендровера была открыта, внутри валялись бутылки. Он был почти гол, но еще жив. Разум покинул его; по крайней мере, так говорилось в отчете. Все, на что он был способен, — это повторять сказанные ему слова. "Вы собирались покутить?" И он говорил: «Покутить». "На вас напали партизаны?" И он отвечал: «Партизаны». Его привезли обратно в новый, пустой дом. Там его ждала Граса. Мне на память пришло стихотворение, которое мы учили в третьем классе миссионерской школы: